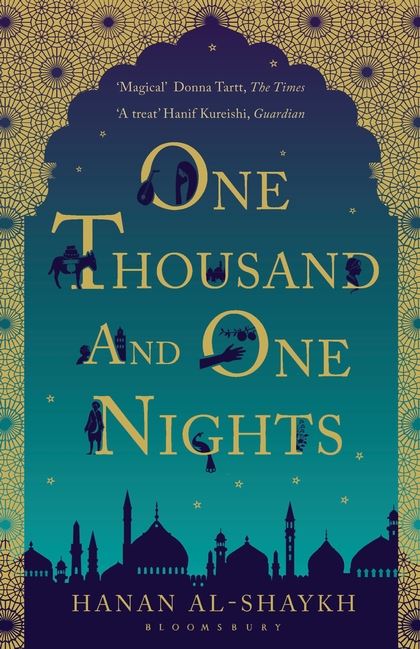
 Увеличить Увеличить |
Рассказ об Ала-ад-дине
Абу-ш-Шамате (ночи 249—270)
Дошло до меня, о счастливый царь, – сказала
Шахразада, – что был в древние времена и минувшие века и годы один
человек, купец в Каире, которого звали Шамс-ад-дин. И был он из лучших купцов и
самых правдивых в речах, и имел слуг и челядь, и рабов и невольников, и большие
деньги, и состоял старшиной купцов в Каире.
И была у него жена, и он любил её, и она его любила; но
только он прожил с ней сорок лет, и не досталось ему от неё ни дочери, ни сына.
И вот в один из дней он сидел в своей лавке, и увидел он, что у каждого из
купцов был сын, или двое сыновей, или больше, и они сидели в лавках, как их
отцы. А в тот день была пятница, и этот купец пошёл в баню и вымылся, как
моются в пятницу, а выйдя, он взял зеркало цирюльника и посмотрел в него на
своё лицо и воскликнул: «Свидетельствую, что нет бога, кроме Аллаха, и что
Мухаммед – посланник Аллаха!» – а потом взглянул на свою городу и увидел, что
белое в ней покрыло чёрное; и вспомнил он, что седина посланец смерти.
А его жена знала время его возвращения и мылась и приводила
себя для него в порядок; и когда купец вошёл к ней, она сказала ему: «Добрый
вечер!» Но он отвечал ей: «Я не видел добра!»
А жена купца сказала невольнице: «Подай столик с ужином!» И
невольница принесла еду, и жена купца сказала: «Поужинай, господин мой»; а
купец отвечал: «Я не стану ничего есть!» – и пихнул столик ногой и отвернул
лицо от жены.
«Почему это и что тебя опечалило?» – спросила его жена; и
купец сказал: «Ты причина моей печали…»
И Шахразаду застигло утро, и она прекратила дозволенные
речи.
Ночь, дополняющая до двухсот пятидесяти
Когда же настала ночь, дополняющая до двухсот пятидесяти,
она сказала: «Дошло до меня, о счастливый царь, что Шамс-ад-дин сказал своей
жене: „Ты причина моей печали!“ – „Почему?“ – спросила его жена. „Потому,
отвечал купец, – что, когда я сегодня открыл лавку, я увидел у каждого из
купцов сына, или двух сыновей, или больше, и они сидели в лавках, как их отцы,
и я сказал себе: „Поистине, тот, кто взял твоего отца, тебя не оставит!“ А в ту
ночь, когда я вошёл к тебе, ты взяла с меня клятву, что я не женюсь ни на ком,
кроме тебя, и не возьму себе в наложницы ни абиссинскую, ни румскую, ни
какую-нибудь другую невольницу и не проведу ночи вдали от тебя, – но дело
в том, что ты бесплодная и жить с тобой – все равно что с камнем“. – „Имя
Аллаха да будет надо мною! – воскликнула жена купца. – Поистине,
задержка от тебя, а не от меня, потому что твоё семя прозрачное“. – „А что
с тем, у кого семя прозрачное?“ – спросил купец; и его жена отвечала: „Он не
делает женщин беременными и не приносит детей“. – „А где то, чем замутить
семя? Я куплю это, – может быть, оно замутит мне семя?“ – спросил купец; и
жена его сказала: „Поищи у москательщиков“.
И купец проспал ночь, и утром он раскаялся, что упрекал свою
жену, а она раскаялась, что упрекала его. И он отправился на рынок и нашёл
одного москательщика и сказал ему: «Мир с вами!» И москательщик ответил на его
привет, и купец спросил его: «Найдётся у тебя чем замутить мне семя?» – «У меня
это было, да вышло, но спроси у соседа», – ответил москательщик; и купец
ходил и спрашивал, пока не опросил всех (а они над ним смеялись), и потом он
вернулся к себе в лавку и сидел огорчённый.
А на рынке был один человек, гашишеед, начальник маклеров,
который принимал опиум и барш[265] и
употреблял зелёный гашиш, и звали этого начальника шейх Мухаммед Симсим, и жил
он в бедности. И всякий день он обычно приходил утром к этому купцу. И вот он
пришёл, как обычно, и сказал ему: «Мир с вами!» И купец ответил на его
приветствие сердито. «О господин, почему ты сердит?» – спросил Мухаммед; и
купец рассказал ему обо всем, что случилось у него с женой, и сказал: «Я сорок
лет женат, и моя жена не забеременела от меня ни сыном, ни дочерью, и мне
сказали: „Она не беременеет потому, что у тебя семя прозрачное“. И я стал
искать чего-нибудь, чтобы замутить себе семя, и не нашёл».
«О господин, – сказал Мухаммед, – у меня есть чем
замутить семя. Что ты скажешь о том, кто сделает твою жену беременной от тебя
после этих сорока лет, что минули?» – «Если ты это сделаешь, я окажу тебе
милость и облагодетельствую тебя!» – отвечал купец. И Мухаммед сказал: «Дай мне
динар!» – «Возьми эти два динара!» – воскликнул купец; и Мухаммед взял их и
сказал ему: «Подай мне эту фарфоровую миску». И купец дал ему миску, и Мухаммед
отправился к торговцу травами и взял у него унции две румского мукаркара и
немного китайской кубебы, и корицы, и гвоздики, и кардамона, и имбиря, и белого
перцу, и горную ящерицу и истолок все это и вскипятил в хорошем растительном
масле. И ещё он взял три унции крупинок ладана и с чашку чернушки и размочил, и
сделал из всего этого тесто с румским пчелиным мёдом и, положив его в миску,
вернулся к купцу и отдал ему миску.
«Вот чем можно замутить семя, – сказал он ему. –
Тебе следует, после того как ты поешь мяса барашка и домашнего голубя, положив
туда много горячительных приправ и пряностей, съесть этого теста на конце
лопаточки, а потом поужинать и запить чистым разведённым сахаром».
И купец велел принести все это и отослал своей жене вместе с
барашком и голубем, и сказал: «Приготовь это хорошенько и возьми замутитель
семени и храни его у себя, пока он мне не понадобится и я его у тебя не
потребую».
И жена купца сделала так, как он приказал ей, и поставила
ему еду, и купец поел, а потом он потребовал ту миску и поел из неё, и ему
понравилось, и он съел остаток, а затем он познал свою жену, и она зачала от
него в ту ночь.
И над ней прошёл первый месяц, и второй, и третий, и крови
прекратились и перестали идти, и жена купца узнала, что она понесла, и дни её
прошли до конца, и её схватили потуги, и поднялись крики, и повитухе пришлось
потрудиться при родах.
И повитуха охраняла новорождённого именами Мухаммеда и Али и
сказала: «Аллах велик!» – и пропела ему в уши азан[266], а потом она завернула младенца и передала
его матери. И та дала ему грудь и стала его кормить, и младенец попил и
насытился и заснул. И повитуха оставалась у них три дня, пока не сделали
мамунию[267] и халву, и её раздали на
седьмой день. А потом рассыпали соль, и купец пришёл и поздравил свою жену с
благополучием и спросил её: «Где залог Аллаху?» И она подала ему новорождённого
редкой красоты – творение промыслителя вечносущего; и было ему семь дней, но
тот, кто видел его, говорил, что ему год.
И купец посмотрел младенцу в лицо и увидел сияющий месяц (а
у него были родинки на обеих щеках) и спросил свою жену: «Как ты его назвала?»
А она ответила: «Будь это девочка, её назвала бы я, то это сын, и никто не
назовёт его, кроме тебя». А люди в те времена давали своим детям имя по
предзнаменованию.
И вот, когда они советовались об имени, кто-то сказал своему
товарищу: «О господин мой, Ала-ад-дин», и купец сказал жене: «Назовём его
Ала-ад-дин Абу-ш-Шамат»[268].
И он назначил младенцу кормилиц и нянек, и младенец пил молоко два года, а
потом его отняли от груди, и он стал расти и крепнуть и начал ходить но земле.
А когда мальчик достиг семилетнего возраста, его отвели в подвал, боясь для
него дурного глаза; и купец сказал: «Он не выйдет из подвала, пока у него не
вырастет борода», и он назначил ему невольницу и раба, и невольница готовила
ему стол, а раб носил ему пищу.
А потом купец справил обрезание мальчика и сделал великий
пир, и после этого он позвал учителя, чтобы учить его, и тот учил мальчика
письму и чтению Корана и наукам, пока он не стал искусным и сведущим.
И случилось, что раб принёс Ала-ад-дину в какой-то день
скатерть с кушаньем и оставил подвал открытым, и тогда Ала-ад-дин вышел из
подвала и вошёл к своей матери (а у неё было собрание знатных женщин). И когда
женщины разговаривали с его матерью, вдруг вошёл к ним Этот ребёнок, подобный
пьяному мамлюку из-за своей чрезмерной красоты. И, увидав его, женщины закрыли
себе лица и сказали его матери: «Аллах да воздаст тебе, о такая-то! Как же ты
приводишь к нам этого постороннего мамлюка? Разве ты не знаешь, что стыд –
проявление веры?» – «Побойтесь Аллаха! – воскликнула мать мальчика. –
Поистине, это мой ребёнок и плод моей души. Это сын старшины купцов,
Шамс-ад-дина, дитя кормилицы, украшенное ожерельем, вскормленное корочками и
мякишем». – «Мы в жизни не видали у тебя ребёнка», – сказали женщины.
И мать Ала-ад-дина молвила: «Его отец побоялся для него дурного глаза и велел
воспитывать его в подвале, под землёй…»
И Шахразаду застигло утро, и она прекратила дозволенные
речи.
Двести пятьдесят первая ночь
Когда же настала двести пятьдесят первая ночь, она сказала:
«Дошло до меня, о счастливый царь, что мать Ала-ад-дина сказала женщинам: „Его
отец побоялся для него дурного глаза пятьдесят первая и велел воспитывать его в
подвале ночь под землёй. Может быть, евнух оставил подвал открытым, и он вышел
оттуда, – мы не хотели, чтобы он выходил из подвала, пока у него не
вырастет борода“.
И женщины поздравили мать Ала-ад-дина, а мальчик ушёл от
женщин во двор при доме, а потом поднялся в беседку и сел там.
И когда он сидел, вдруг пришли рабы с мулом его отца, и
Ала-ад-дин спросил их: «Где был этот мул?» И рабы сказали: «Мы доставили на нем
товары в лавку твоего отца (а он ехал верхом) и привели его». – «Каково
ремесло моего отца?» – спросил Ала-ад-дин. «Твой отец – старшина купцов в земле
египетской и султан оседлых арабов», – сказали ему.
И Ала-ад-дин вошёл к своей матери и спросил её: «О матушка,
каково ремесло моего отца?» – «О дитя моё, – отвечала ему мать, –
твой отец – купец, и он старшина купцов в земле египетской и султан оседлых
арабов, и его невольники советуются с ним, когда продают, только о тех товарах,
которые стоят самое меньшее тысячу динаров, а товары, которые стоят девятьсот
динаров или меньше, – о них они с ним не советуются и продают их сами. И
не приходит из чужих земель товаров, мало или много, которые не попадали бы в
руки твоему отцу, и он распоряжается ими, как хочет; и не увязывают товаров,
уходящих в чужие земли, которые не прошли бы через руки твоего отца. И Аллах
великий дал твоему отцу, о дитя моё, большие деньги, которых не счесть». –
«О матушка, – сказал Ала-ад-дин, – хвала Аллаху, что я сын султана
оседлых арабов и что мой отец – старшина купцов! Но почему, о матушка, вы
сажаете меня в подвал и оставляете там запертым?» – «О дитя моё, мы посадили
тебя в подвал только из боязни людских глаз; ведь сглаз – это истина, и
большинство жителей могил умерли от дурного глаза», – ответила ему мать.
И Ала-ад-дин сказал: «О матушка, а куда бежать от судьбы?
Осторожность не помешает предопределённому, и от того, что написано, нет
убежища. Тот, кто взял моего деда, не оставит и меня и моего отца: если он
живёт сегодня, то не будет жить завтра; и когда мой отец умрёт и я приду и
скажу: „Я – Ала-ад-дин, сын купца Шамс-аддина“, – мне не поверит никто
среди людей, и старики скажут: „Мы в жизни не видели у Шамс-ад-дина ни сына, ни
дочери“. И придут из казны и возьмут деньги отца. Да помилует Аллах того, кто
сказал: „Умрёт муж, и уйдут его деньги, и презреннейший из людей возьмёт его
женщин“. А ты, о матушка, поговори с отцом, чтобы он взял меня с собой на рынок
и открыл мне лавку: я буду сидеть там с товаром, и он научит меня продавать и
покупать, брать и отдавать». И мать Ала-ад-дина сказала: «О дитя моё, когда
твой отец приедет, я расскажу ему об этом».
И когда купец вернулся домой, он увидел, что его сын,
Ала-ад-дин Абу-ш-Шамат, сидит подле своей матери, и спросил её: «Почему ты
вывела его из подвала?» И она сказала ему: «О сын моего дяди, я его не
выводила, но слуги забыли запереть подвал и оставили его открытым. И я сидела
(а у меня собрались знатные женщины) и вдруг он вошёл к нам». И она рассказала
мужу, что говорил его сын. И Шамс-ад-дин сказал ему: «О дитя моё, завтра, если
захочет Аллах великий, я возьму тебя на рынок; но только, дитя моё, чтобы
сидеть на рынках и в лавках, нужна пристойность и совершенство при всех
обстоятельствах».
И Ала-ад-дин провёл ночь, радуясь словам своего отца; а
когда настало утро, Шамс-ад-дин сводил своего сына в баню и одел его в платье,
стоящее больших денег, и после того как они позавтракали и выпили питьё, он сел
на своего мула и посадил сына на мула позади себя и отправился на рынок.
И люди на рынке увидели, что едет старшина купцов, а позади
него ребёнок мужского пола, подобный луне в четырнадцатую ночь, и кто-то сказал
своему товарищу: «Посмотри на этого мальчика, который позади старшины купцов.
Мы думали о нем благое, а он точно порей – сам седой, а сердце у него зеленое».
И шейх Мухаммед Симсим, начальник, прежде упомянутый, сказал
купцам: «О купцы, мы больше не согласны, чтобы он был над нами старшим.
Никогда!»
А обычно, когда старшина купцов приезжал из дому и садился в
лавке, приходил начальник рынка и читал купцам фатиху[269], и они поднимались и шли к старшине купцов
и читали фатиху и желали ему доброго утра, и затем каждый из них уходил к себе
в лавку. Но в этот день, когда старшина купцов сел, как всегда, в своей лавке,
купцы не пришли к нему согласно обычаю.
И он крикнул начальника и спросил его: «Отчего купцы не
собираются, как обычно?» И начальник ответил: «Я не люблю доносить о смутах, но
купцы сговорились отстранить тебя от должности старшины и не читать тебе
фатиху». – «А какая тому причина?» – спросил Шамсад-дин. И начальник
сказал: «Что это за мальчик сидит рядом с тобою, когда ты старик и глава купцов?
Что этот ребёнок – твой невольник или он в родстве с твоей женой? Я думаю, что
ты его любишь и имеешь склонность к мальчику».
И Шамс-ад-дин закричал на него и сказал: «Молчи, да
обезобразит Аллах тебя самого и твои свойства! Это мой сын». – «Мы в жизни
не видели у тебя сына», – воскликнул Мухаммед Симсим. И купец сказал:
«Когда ты принёс мне замутитель семени, моя жена понесла и родила этого
мальчика, но из боязни дурного глаза я воспитывал его в подвале, под землёй, и
мне хотелось, чтобы он не выходил из подвала, пока не сможет схватить рукою
свою бороду. Но его мать не согласилась, и он потребовал, чтобы я открыл ему
лавку и положил там товары и научил его покупать и продавать».
И начальник пошёл к купцам и осведомил их об истине в этом
деле, и они все поднялись и вместе с начальником отправились к старшине купцов
и, став перед ним, прочитали фатиху и поздравили его с этим мальчиком.
«Господь наш да сохранит корень и ветку, – сказали
они, – но когда бедняку среди нас достаётся сын или дочка, он обязательно
готовит для своих друзей блюдо каши и приглашает знакомых и родственников, а ты
этого не сделал». – «Это вам с меня причитается, и встреча наша будет в
саду», – отвечал купец…»
И Шахразаду застигло утро, и она прекратила дозволенные
речи.
Двести пятьдесят вторая ночь
Когда же настала двести пятьдесят вторая ночь, её сестра
Дуньязада сказала ей: «О сестрица, докончи нам твой рассказ, если ты
бодрствуешь, а не спишь». И Шахразада ответила: «С любовью и охотой! Дошло до
меня, о счастливый царь, что старшина купцов обещал купцам трапезу и сказал им:
„Наша встреча будет в саду“.
И когда наступило утро, он послал слугу в беседку и в дом,
которые были в саду, и велел постлать там ковры и отправил припасы для стряпни:
баранов, масла и прочее, что было нужно по обстоятельствам, и сделал два стола:
стол в доме и стол в беседке.
И приготовился купец Шамс-ад-дин, и приготовился его сын
Ала-ад-дин, и отец сказал ему: «О дитя моё, когда войдёт человек седой, я его
встречу и посажу его за стол, который в доме, а ты, дитя моё, когда увидишь,
что входит безбородый мальчик, возьми его и приведи в беседку и посади за
стол». – «Почему, о батюшка? – спросил Ала-аддин. – Отчего ты
готовишь два стола: один для мужчин, а другой для мальчиков?» – «О дитя моё,
безбородый стыдится есть около мужей», – ответил Шамс-ад-дин. И его сын
одобрил это.
И когда купцы стали приходить, Шамс-ад-дин встречал мужчин и
усаживал их в доме, а его сын Ала-ад-дин встречал мальчиков и усаживал их в
беседке. А потом поставили кушанья и стали есть и пить, наслаждаться и
радоваться, и пили напитки и зажигали куренья, и старики сидели и беседовали о
науках и преданиях.
И был между ними один купец, по имени Махмуд
альБальхи, – мусульманин по внешности, маг втайне, который стремился к
скверному и любил мальчиков. Он посмотрел в лицо Ала-ад-дину взглядом,
оставившим после себя тысячу вздохов, и сатана украсил в его глазах лицо
мальчугана жемчужиной, и купца охватила страсть, волненье и увлеченье, и любовь
привязалась к его сердцу. (А этот купец, которого звали Махмуд аль-Бальхи,
забирал ткани и товар у отца Ала-ад-дина.) И Махмуд аль-Бальхи встал пройтись и
свернул к мальчикам, и те поднялись к нему навстречу. А Ала-ад-дину не
терпелось отлить воду, и он поднялся, чтобы исполнить нужду, и тогда купец
Махмуд обернулся к мальчикам и сказал им: «Если вы уговорите Ала-ад-дина
поехать со мной путешествовать, я дам каждому из вас платье, стоящее больших
денег», – и потом он ушёл от них в помещение мужчин. И пока мальчики
сидели, вдруг вошёл к ним Ала-ад-дин. И они поднялись ему навстречу и посадили
между собою, на возвышенье, и один из мальчиков сказал своему товарищу: «О Сиди
Хасан, расскажи мне, откуда пришли к тебе твои деньги, на которые ты торгуешь?»
И Хасан отвечал: «Когда я вырос и стал взрослым и достиг
возраста мужей, я сказал своему отцу: „О батюшка, приготовь мне товаров“; и он
мне ответил: „О дитя моё, у меня ничего нет, но пойди возьми денег у
кого-нибудь из купцов и торгуй на них, и учись продавать и покупать, брать и
давать“.
И я отправился к одному из купцов и занял у него тысячу
динаров и купил на них тканей и отправился с ними в Дамаск. И я нажил в два
раза больше и забрал в Дамаске товаров и поехал с ними в Халеб, и продал их и
получил свои деньги вдвойне, а потом я забрал товаров в Халебе и поехал в Багдад,
и продал их и нажил вдвое больше, и до тех пор торговал, пока у меня не стало
около десяти тысяч динаров денег».
И каждый из мальчиков говорил своему товарищу то же самое,
пока не настала очередь и не пришлось говорить Ала-ад-дину Абу-ш-Шамату. И ему
сказали: «А ты, о Сиди Ала-ад-дин?» И он ответил: «Меня воспитывали в подвале,
под землёй, и я вышел оттуда в рту пятницу, и я хожу в лавку и возвращаюсь
домой». – «Ты привык сидеть дома и не знаешь сладости путешествия, и
путешествовать надлежит лишь мужам», – сказали ему. И он ответил: «Мне не
нужно путешествовать, и нет для меня цены в удовольствиях». И кто-то сказал
своему товарищу: «Он точно рыба: когда расстанется с водой, то умирает».
«О Ала-ад-дин, – сказали ему, – гордость детей
купцов лишь в том, чтобы путешествовать ради наживы». И Ала-ад-дина охватил
из-за этого гнев, и он ушёл от мальчиков с плачущими глазами и опечаленной
душой и, сев на своего мула, отправился домой.
И его мать увидела, что он в великом гневе, с плачущими
глазами, и спросила: «Что ты плачешь, о дитя моё?» И Ала-ад-дин отвечал: «Все
дети купцов поносили меня и говорили мне: „Гордость детей купцов лишь в том,
чтобы путешествовать ради наживы денег…“
И Шахразаду застигло утро, и она прекратила дозволенные
речи.
Двести пятьдесят третья ночь
Когда же настала двести пятьдесят третья ночь, она сказала:
«Дошло до меня, о счастливый царь, что Ала-аддин сказал своей матери: „Все дети
купцов поносили меня и говорили мне: „Гордость детей купцов лишь в том, чтобы
путешествовать ради наживы“. – „О дитя моё, – спросила его мать,
разве ты хочешь путешествовать?“ И Ала-ад-дин отвечал: „Да!“ И тогда она
сказала: „А в какой город ты отправишься?“ – «В город Багдад, – отвечал
Ала-ад-дин. – Человек наживает там на том, что у него есть, вдвое больше“.
И мать Ала-ад-дина сказала: «О дитя моё, у твоего отца денег
много, а если он не соберёт тебе товаров из своих денег, тогда я соберу тебе
товары от себя». – «Лучшее благо – благо немедленное, и если будет ваша
милость, то теперь для неё время», – сказал Ала-ад-дин. И его мать
призвала рабов и послала их к тем, кто увязывает ткани, и их увязали для
Ала-ад-дина в десять тюков.
Вот что было с его матерью. Что же касается до его отца, то
он огляделся и не нашёл своего сына Ала-ад-дина в саду и спросил про него, и
ему сказали, что Ала-ад-дин сел на мула и уехал домой.
И тогда купец сел и отправился за ним, а войдя в своё
жилище, он увидал связанные тюки и спросил о них; и жена рассказала ему, что
произошло у детей купцов с её сыном Ала-ад-дином. «О дитя моё, – сказал
купец, – да обманет Аллах пребывающего на чужбине! Сказал ведь посланник
Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует: „Счастье мужа в том, чтобы
ему достался надел в его земле“; а древние говорили: „Оставь путешествие, будь
оно даже на милю“. Ты твёрдо решил путешествовать и не отступишься от этого?» –
спросил он потом своего сына. И его сын ответил ему: «Я обязательно поеду в
Багдад с товарами, а иначе я сниму с себя одежду и надену одежду дервишей и
уйду странствовать по землям». – «Я не нуждаюсь и не терплю
лишений, – наоборот, у меня много денег, – сказал его отец и показал
ему все бывшее у него имущество, товары и ткани. – У меня есть для всякого
города подходящие ткани и товары, – сказал он потоп, и, между прочим, он
показал ему сорок связанных тюков, и на каждом тюке было написано: „Цена этому
тысяча динаров“. – О дитя моё, – сказал он, – возьми эти сорок
тюков и те десять, которые у твоей матери» и отправляйся, храниммй Аллахом
великим; но только, дитя моё, я боюсь для тебя одной чащи на твоём пути,
которая называется Чаща Львов, и одной долины также, называемой Долина
Собак, – души погибают там без снисхождения». – «А почему, о
батюшка?» – спросил Ала-ад-дин; и его отец ответил: «Из-за бедуина,
преграждающего дороги, которого зовут Аджлан». – «Мой удел – от Аллаха, и
если есть у него для меня доля, меня не постигнет беда», – отвечал
Ала-ад-дин.
А затем Ала-ад-дин с отцом сели и поехали да рынок вьючных
животных; и вдруг один верблюжатник сошёл со своего мула и поцеловал руку
старшине купцов, говоря: «Клянусь Аллахом, давно, о господин мой, ты не нанимал
нас для торговых дел». – «Для всякого времени своя власть и свои
люди, – отвечал Шамс-ад-дин, – и Аллах да помилует того, кто сказал:
Вот старец на земле повсюду бродит,
И вплоть до колен его борода доходит.
Спросил я его: «Зачем ты так
согнулся?»
И молвил он, ко мне направив руки:
«Я юность потерял свою во прахе
И вот согнулся, и ищу я юность».
А окончив эти стихи, он сказал: «О начальник, никто не хочет
этого путешествия, кроме моего сына»; и верблюжатник ответил: «Аллах да
сохранит его для тебя!»
А затем старшина купцов заключил союз между верблюжатником я
своим сыном и сделал верблюжатника как бы отцом мальчика, и поручил ему
заботиться о нем, и сказал: «Возьми эти сто динаров для твоих слуг».
И старшина купцов купил шестьдесят мулов, и светильник, и
покрывало для Абд-аль-Кадира Гилянского[270] и
сказал Ала-ад-дину: «О сын мой, в моё отсутствие этот человек будет тебе отцом
вместо меня, и во всем, что он тебе скажет, повинуйся ему».
И в этот вечер устроил чтение Корана и праздник в честь
шейха Абд-аль-Кадира Гилянского, а когда настало утро, старшина купцов дал
своему сыну десять тысяч динаров и сказал ему: «Когда ты вступишь в Багдад и
увидишь, что дела с тканями идут ходко, продавай их; если же увидишь, что дела
с ними стоят на месте, расходуй эти деньги».
И потом нагрузили мулов, и распрощались друг с другом, и
отправились в путь, и выехали из города.
А Махмуд аль-Бальхи тоже собрался ехать в сторону Багдада и
вывез свои тюки и поставил шатры за городом и сказал себе: «Ты насладишься этим
мальчиком только в уединении, так как там ни доносчик, ни соглядатай не смутят
тебя».
А отцу мальчика причиталась с Махмуда аль-Бальхи тысяча
динаров – остаток одной сделки, и Шамс-ад-дин отправился к нему и простился с
ним и сказал: «Отдай Эту тысячу динаров моему сыну Ала-ад-дину». И он поручил
Махмуду о нем заботиться и молвил: «Он будет тебе как сын».
И Ала-ад-дин встретился с Махмудом аль-Бальхи…»
И Шахразаду застигло утро, и она прекратила дозволенные
речи.
Двести пятьдесят четвёртая ночь
Когда же настала двести пятьдесят четвёртая ночь, она
сказала: «Дошло до меня, о счастливый царь, что Ала-ад-дин встретился с
Махмудом аль-Бальхи и Махмуд аль-Бальхи поднялся и велел повару Ала-ад-дина
ничего не стряпать и стал предлагать Ала-ад-дину и его людям кушанья и напитки,
а потом они отправились в путь.
А у купца Махмуда аль-Бальхи было четыре дома: один в Каире,
один в Дамаске, один в Халебе и один в Багдаде; и путники ехали по степям и
пустыням, пока не приблизились к Дамаску.
И когда Махмуд-аль-Бальхи послал к Ала-ад-дину своего раба и
тот увидел, что юноша сидит и читает, подошёл и поцеловал ему руки. «Чего ты
просишь?» – спросил Ала-ад-дин; и раб ответил: «Мой господин тебя приветствует
и требует тебя на пир к себе в дом». – «Я посоветуюсь с моим отцом,
начальником – Кемаль-аддином, верблюжатником», – сказал Ала-ад-дин; и
когда он посоветовался с ним, идти ли ему, верблюжатник сказал: «Не ходи!»
А потом они уехали из Дамаска и вступили в Халеб, и Махмуд аль-Бальхи
устроил пир и послал просить Алаад-дина, но юноша посоветовался с начальником,
и тот опять запретил ему.
И они выступили из Халеба и ехали, пока до Багдада не
остался всего один переход, и Махмуд аль-Бальхи устроил пир и прислал просить
Ала-ад-дина.
И юноша посоветовался с начальником, и тот снова запретил
ему, но Ала-ад-дин воскликнул: «Я обязательно пойду!»
И он поднялся и, подвязав под платьем меч, пошёл и пришёл к
Махмуду аль-Бальхи, и тот поднялся ему навстречу и приветствовал его.
И он велел подать великолепную скатерть, уставленную
кушаньями, и они поели и попили и вымыли руки. И Махмуд аль-Бальхи склонился к
Ала-ад-дину, чтобы взять у него поцелуй, но Ала-ад-дин поймал поцелуй в руку и
спросил: «Что ты хочешь делать?» – «Я тебя позвал, – ответил
Махмуд, – и хочу сделать себе с тобой удовольствие в этом месте, и мы
будем толковать слова сказавшего:
Возможно ль, чтоб к нам пришёл ты на миг столь краткий, Что
сжарить яйцо иль выдоить коз лишь хватит, И с нами бы съел ты сколько найдётся
хлебца, И взял бы себе ты денежек, сколько сможешь?
Тебе унести, что хочешь, с собой нетрудно, – Ладонь,
или горсть, иль полную даже руку».
И затем Махмуд аль-Бальхи хотел снасильничать над
Ала-ад-дином, и Ала-ад-дин поднялся и обнажил меч и воскликнул: «Горе твоим
сединам! Ты не боишься Аллаха, хоть и жестоко его наказанье! Да помилует Аллах
того, кто сказал:
Храни седины твои от скверны,
грязнящей их:
Поистине, белое легко принимает
грязь».
А произнеся этот стих, Ала-ад-дин сказал Махмуду аль-Бальхи:
«Поистине, этот товар поручен Аллаху, и он не продаётся, и если бы я продавал
этот товар другому за золото, я бы продал его тебе за серебро. Но, клянусь
Аллахом, о скверный, я никогда больше не буду тебе товарищем!» Петом Ала-ад-дин
вернулся к начальнику Кемаль-ад-дину и сказал ему: «Поистине, этот человек
развратник, и я никогда больше не буду ему товарищем и не пойду с ним по одной
дороге». – «О дитя моё, – отвечал Кемаль-ад-дин, – не говорил ли
я тебе: не ходи к нему. Однако, дитя моё, если мы с ним расстанемся, нам грозит
гибель; позволь же нам остаться в одном караване» – «Мне никак невозможно быть
ему спутником в дороге», – сказал Ала-ад-дин, а затем он погрузил свои
тюки и отправился дальше вместе с теми, кто был с ним.
И они ехали до тех пор, пока не спустились в долину; и
Ала-ад-дин хотел там остановиться, но верблюжатник сказал: «Не останавливайтесь
здесь! Продолжайте ехать и ускорьте ход: может быть, мы достигнем Багдада
раньше, чем там запрут ворота. Ворота в Багдаде отпирают и запирают всегда по
солнцу, – из боязни, что городом овладеют рафидиты[271] и побросают богословские книги в
Тигр». – «О батюшка, – ответил Ала-ад-дин, – я выехал и
отправился с товаром в этот город не для торговли, а чтобы посмотреть чужие
страны». – «О дитя моё, мы боимся для тебя и для твоих денег беды от
кочевников», – сказал верблюжатник; и Ала-ад-дин воскликнул: «О человек,
ты слуга или тебе служат? Я не войду в Багдад иначе как утром, чтобы багдадские
юноши увидели мои товары и узнали меня». – «Делай, как хочешь, я тебя
предупредил, и ты сам знаешь, в чем твоё избавленье», – сказал начальник.
И Ала-ад-дин велел складывать тюки с мулов, и тюки сложили, и поставили шатёр,
и все оставались на месте до полуночи.
И Ала-ад-дин вышел исполнить нужду и увидел, как что-то
блестит вдали, и спросил верблюжатника: «О, начальник, что это такое блестит?»
И начальник сел прямо и взглянул, и, всмотревшись как
следует, увидел, что блестят зубцы копий и железо оружия и бедуинские мечи; и
вдруг оказалось, что это арабы[272] и
начальника арабов зовут шейх Аджлан АбуНаиб. И когда арабы приблизились к ним и
увидели их тюки, они сказали друг другу: «Вот ночь добычи!»
И, услышав, что они говорят это, начальник Кемальад-дин,
верблюжатник, воскликнул: «Прочь, о ничтожнейший из арабов!» Но Абу-Наиб ударил
его копьём в грудь, и оно вышло, блистая, из его спины.
И Кемаль-ад-дин упал у входа в палатку убитый; и тогда
водонос воскликнул: «Прочь, о презреннейший из арабов!», но его ударили по руке
мечом, который прошёл, блистая, через его сухожилия, и водонос упал мёртвый. И
пока все это происходило, Ала-ад-дин стоял и смотрел.
А потом арабы повернулись и бросились на караван и перебили
людей, не пощадив никого из отряда Ала-аддина, и взвалили тюки на спину мулов и
уехали.
И Ала-ад-дин сказал себе: «Тебя убьёт только твой мул и вот
эта одежда», – и стал снимать с себя одежду и бросил её на спину мула,
пока на нем не остались рубаха и подштанники, и только.
И он повернулся ко входу в палатку и увидел перед собой пруд
из крови, в котором струилась кровь убитых, и начал валяться в ней в рубахе и
подштанниках, так что стал точно убитый, утопающий в крови.
Вот что было с Ала-ад-дином. Что же касается шейха арабов
Аджлана, то он спросил у своих людей:
«О арабы, этот караван идёт из Каира или выходит из
Багдада?..»
И Шахразаду застигло утро, и она прекратила дозволенные
речи.
Двести пятьдесят пятая ночь
Когда же настала двести пятьдесят пятая ночь, она сказала:
«Дошло до меня, о счастливый царь, что бедуин спросил у своих людей: „О арабы,
этот караван идёт из Каира или выходит из Багдада!“ И ему ответили: „Он идёт из
Каира в Багдад“. – „Вернитесь к убитым, я думаю, что владелец каравана не
умер“, – сказал он; и арабы вернулись к убитым и снова стали бить мёртвых
мечами и копьями и дошли до Алаад-дина, который бросился на землю среди убитых.
И дойдя до него, они сказали: «Ты притворился мёртвым, но мы
убьём тебя до конца», – и бедуин вынул копьё и хотел вонзить его в грудь
Ала-ад-дину. И тогда Ала-ад-дин воскликнул про себя: «Благослови, о
Абд-аль-Кадир, о гилянец!» – и увидел руку, которая отвела копьё от его груди к
груди начальника Кемаль-ад-дина, верблюжатника, и бедуин ударил его копьём и не
прикоснулся к Алаад-дину.
И потом они взвалили тюки на спину мулов и ушли, и
Ала-ад-дин посмотрел и увидел, что птицы улетели со своей добычей. И он сел
прямо и поднялся и побежал; и вдруг бедуин Абу-Наиб сказал своим товарищам: «О
арабы, я вижу что-то вдали»; и один из бедуинов поднялся и увидел Ала-ад-дина,
который убегал. «Тебе не поможет бегство, раз мы сзади тебя!» – воскликнул
Аджлан и, ударив своего коня пяткой, поспешил за Ала-ад-дином.
А Ала-ад-дин увидал перед собой пруд с водой и рядом с ним
водохранилище, и влез на решётку водохранилища, и растянулся, и притворился
спящим, говоря про себя: «О благой покровитель, опусти твой покров, который не
совлекается».
И бедуин остановился перед водохранилищем и, поднявшись на
стременах, протянул руку, чтобы схватить Ала-ад-дина. И Ала-ад-дин воскликнул:
«Благослови, о госпожа моя Иафиса[273], вот время оказать помощь!» И вдруг бедуина
ужалил в руку скорпион, и он закричал и воскликнул: «Ах, подойдите ко мне, о
арабы, я ужален».
И бедуин сошёл со спины коня, и его товарищи пришли к нему и
опять посадили его на коня и спросили: «Что с тобой случилось?» И он отвечал:
«Меня ужалил детёныш скорпиона»; и арабы увели караван и ушли.
Вот что было с ними. Что же касается Ала-ад-дина, то он
продолжал лежать на решётке водохранилища, а что до купца Махмуда аль-Бальхи –
то он велел грузить тюки и поехал, и ехал до тех пор, пока не достиг Чащи
Львов. И он нашёл всех слуг Ала-ад-дина убитыми и обрадовался этому и,
спешившись, дошёл до водохранилища и пруда. А мулу Махмуда аль-Бальхи хотелось
пить, и он нагнулся, чтобы напиться из пруда, и увидел отражение Ала-ад-дина и
шарахнулся от него. И Махмуд аль-Бальхи поднял глаза и увидел, что Ала-ад-дин
лежит голый, в одной только рубашке и подштанниках. «Кто сделал с тобою такое
дело и оставил тебя в наихудшем положении?» – спросил Махмуд. И Ала-ад-дин
отвечал: «Кочевники». – «О дитя моё, – сказал Махмуд, – ты
откупился мулами и имуществом. Утешься словами того, кто сказал: Когда голова
мужей спасётся от гибели, то все их имущество-обрезок ногтей для них. Но
спустись, о дитя моё, не бойся беды».
И Ала-ад-дин спустился с решётки водохранилища, и Махмуд
посадил его на мула, и они ехали, пока не прибыли в город Багдад, в дом Махмуда
аль-Бальхи. И Махмуд «велел свести Ала-ад-дина в баню и сказал ему: „Деньги и
тюки – выкуп за тебя, о дитя моё; и если ты будешь меня слушаться, я верну тебе
твои деньги и тюки вдвойне“.
А когда Ала-ад-дин вышел из бани, Махмуд отвёл его в
комнату, украшенную золотом, где было четыре портика, и велел принести
скатерть, на которой стояли всякие кушанья. И они стали есть и пить, и Махмуд
склонился к Ала-ад-дину, чтобы взять у него поцелуй, но Ала-ад-дин поймал
поцелуй рукой и воскликнул: «Ты до сих пор следуешь насчёт меня твоему
заблуждению! Разве я не сказал тебе, что если бы я продавал этот товар другому
За золото, я бы, наверное, продал его тебе за серебро?» – «Я даю тебе и товары,
и мула, и одежду только ради такого случая, – отвечал Махмуд. – От
страсти к тебе я в расстройстве, и от Аллаха дар того, кто сказал: Сказал со
слов кого-то из старцев нам Абу-Биляль, наставник, что Шарик сказал:
«Влюблённые не могут любовь свою
Лобзаньями насытить без близости».
«Это вещь невозможная, – сказал Ала-ад-дин. –
Возьми твоё платье и твоего мула и открой мне двери, чтобы я мог уйти».
И Махмуд открыл ему двери, и Ала-ад-дин вышел, и собаки
лаяли ему вслед. И он пошёл и шёл в темноте, и вдруг увидал ворота мечети, и
вошёл в проход, ведший в мечеть, и укрылся там, – и вдруг видит: к нему
приближается свет. И он всмотрелся и увидел два фонаря в руках рабов,
предшествовавших двум купцам, один из которых был старик с красивым лицом, а
другой – юноша. И Ала-ад-дин услышал, как юноша говорил старику: «Ради Аллаха,
о дядюшка, возврати мне дочь моего дяди»; а старик отвечал ему: «Разве я тебя
не удерживал много раз, а ты сделал развод своей священной книгой»[274].
И старик взглянул направо и увидал юношу, подобного обрезку
луны, и сказал ему: «Мир с тобою!» И Ала-ад-дин ответил на его приветствие, а
старик спросил: «О мальчик, кто ты?» – «Я Ала-ад-дин, сын Шамс-ад-дина,
старшины купцов в Каире, – отвечал юноша. – Я попросил у отца
товаров, и он собрал мне пятьдесят тюков товаров и материй…»
И Шахразаду застигло утро, и она прекратила дозволенные
речи.
Двести пятьдесят шестая ночь
Когда же настала двести пятьдесят шестая ночь, она сказала:
«Дошло до меня, о счастливый царь, что Алаад-дин сказал: „Мой отец собрал мне
пятьдесят тюков товаров и тканей и дал мне десять тысяч динаров, и я отправился
и ехал, пока не достиг Чащи Львов. И на меня напали кочевники и забрали мои
деньги и тюки; и я вошёл в этот город, не зная, где переночевать, и увидал это
место и укрылся здесь“. – „О дитя моё, – молвил старик, – что ты
скажешь, если я дам тебе тысячу динаров, и платье в тысячу динаров, и мула в
тысячу динаров“. – „За что ты дашь мне это, о дядюшка?“ – спросил
Ала-ад-дин. И старик сказал: „Этот мальчик, который со мною, сын моего брата, и
у его отца никого нет, кроме него, а у меня есть дочь, кроме которой у меня
никого не было, и зовут её Зубейда-лютнистка, и она красива и прелестна. Я
выдал её замуж за этого юношу, и он её любит, но она ненавидит его, и однажды
он не сдержал клятву, трижды поклявшись тройным разводом; и едва только его
жена уверилась в этом, она покинула его. И он согнал ко мне всех людей, чтобы я
вернул ему жену, и я сказал ему: «Это удастся только через заместителя“[275]. И мы сговорились, что
сделаем заместителем какого-нибудь чужеземца, чтобы никто не корил моего зятя
этим делом, и раз ты чужеземец – ступай с нами. Мы напишем тебе договор с моей
дочерью, и ты проведёшь с ней сегодняшнюю ночь, а наутро разведёшься с ней, и я
дам тебе то, о чем говорил».
И Ала-ад-дин сказал про себя: «Клянусь Аллахом, провести
ночь с невестой, в доме и на постели, мне лучше, чем ночевать в переулках и
проходах!» – и отправился с ними к кади. И когда кади взглянул на Ала-ад-дина,
любовь к нему запала ему в сердце, и он спросил отца девушки: «Что вы хотите?»
– «Мы хотим сделать его заместителем этого юноши для моей дочери, –
отвечал отец девушки, – и напишем на него обязательство дать в приданое
десять тысяч динаров. И если он переночует с нею, а наутро разведётся, мы дадим
ему одежду в тысячу динаров, а если не разведётся, пусть выкладывает десять
тысяч динаров».
И они написали договор с таким условием, и отец девушки
получил в этом расписку, а затем он взял Ала-аддина с собою и одел его в ту
одежду, и они пошли с ним и пришли к дому девушки. И отец её оставил
Ала-ад-дина стоять у ворот дома и, войдя к своей дочери, сказал ей: «Возьми
обязательство о твоём приданом – я написал тебе договор с красивым юношей по
имени Ала-ад-дин Абу-ш-Шамат; заботься же о нем наилучшим образом». И потом
купец отдал ей расписку и ушёл к себе домой.
Что же касается двоюродного брата девушки, то у него была
управительница, которая заходила к Эубейделютнистке, дочери его дяди, и юноша
оказывал ей милости.
«О матушка, – сказал он ей, – когда Зубейда, дочь
моего дяди, увидит этого красивого юношу, она после уже не примет меня. Прошу
тебя, сделай хитрость и удержи от него девушку». – «Клянусь твоей юностью,
я не дам ему приблизиться к ней», – отвечала управительница, а затем она
пришла к Ала-ад-дину и сказала ему: «О дитя моё, я тебе кое-что посоветую ради
Аллаха великого; прими же мой совет. Я боюсь для тебя беды от этой девушки;
оставь её спать одну, не прикасайся к ней и не подходи к ней близко». – «А
почему?» – спросил Ала-ад-дин. И управительница сказала: «У неё на всем теле
проказа, и я боюсь, что она заразит твою прекрасную юность». – «Нет мне до
неё нужды», – сказал Ала-ад-дин. А управительница отправилась к девушке и
сказала ей то же самое, что сказала Ала-ад-дину. И девушка молвила: «Нет мне до
него нужды! Я оставлю его спать одного, а наутро он уйдёт своей дорогой».
Потом она позвала невольницу и сказала ей: «Возьми столик с
кушаньем и подай его ему, пусть ужинает»; и невольница снесла Ала-ад-дину
столик с кушаньем и поставила его перед ним, и Ала-ад-дин ел, пока не
насытился, а потом он сел и, затянув красивый напев, начал читать суру Я-Син[276]. И девушка прислушалась и
нашла, что его напев похож на псалмы Давида, и сказала про себя: «Аллах огорчил
эту старуху, которая сказала, что юноша болен проказой! У того, кто в таком
положении, голос не такой. Эти слова – ложь на него».
И потом она взяла в руки лютню, сделанную в землях
индийских, и, настроив струны, запела под неё прекрасным голосом,
останавливающим птиц в глубине неба, и проговорила такие стихи:
«Люблю газеленка я, чей тёмен и чёрен
глаз;
Когда он появится, ветвь ивы
завидует.
Меня отвергает он, другая с ним
счастлива, —
То милость господняя: даёт, кому
хочет, он».
И Ала-ад-дин, услышав, что она проговорила такие слова,
запел сам, когда закончил суру, и произнёс такой стих:
«Приветствую ту, чей стан одеждою
служит ей,
И розы, в садах ланит привольно
цветущие».
И девушка встала (а любовь её к юноше сделалась сильнее) и
подняла занавеску; и, увидав её, Ала-ад-дин произнёс такое двустишие:
«Являет луну и гнётся она, как ива,
Газелью глядит, а дышит как будто
амброй,
И мнится: горе любит моё сердце
И в час разлуки с ним соединится».
И потом она прошлась, тряся бёдрами и изгибая бока –
творенье того, чьи милости скрыты, и оба они посмотрели друг на друга взглядом,
оставившим после себя тысячу вздохов; и когда стрела её взора утвердилась у
него в сердце, он произнёс такие стихи:
«Увидев на небе луну, я вспомнил
Ту ночь, когда мы близки с нею были,
Мы оба видели луну, но глазом
Она моим, а я – её глазами».
А когда она подошла к нему и между ними осталось лишь два
шага, он произнёс такие стихи:
«Распустила три она локона из волос
своих
Ночью тёмною – и четыре ночи явила
нам.
И к луне на небе лицом она обратилася
—
И явила мне две луны она
одновременно».
И девушка приблизилась к Ала-ад-дину, и он сказал: «Отдались
от меня, чтобы меня не заразить!» И тогда она открыла кисть своей руки, и кисть
её разделялась надвое и белела, как белое серебро. «Отойди от меня, чтобы меня
не заразить, ты болен проказой», – сказала она. И Алаад-дин спросил её:
«Кто тебе рассказал, что у меня проказа?» – «Старуха мне рассказала», –
ответила девушка. И Ала-ад-дин воскликнул: «И мне тоже старуха рассказывала,
что ты поражена проказой!»
И они обнажили руки, и девушка увидала, что его тело – чистое
серебро, и сжала его в объятиях, и он тоже прижал её к груди, и они обняли друг
друга. А потом девушка взяла Ала-ад-дина и легла на спину и развязала рубашку,
и у Ала-ад-дина зашевелилось то, что оставил ему отец, и он воскликнул: «На
помощь, о шейх Закария, о отец жил!»
И он положил руки ей на бок и ввёл жилу сладости в ворота
разрыва и толкнул и достиг врат завесы (а он вошёл через ворота победы), а
потом он пошёл на рынок второго дня и недели, и третьего дня, и четвёртого, и
пятого дня, и увидел, что ковёр пришёлся как раз по портику, и ларец искал себе
крышку, пока не нашёл её.
А когда настало утро, Ала-ад-дин сказал своей жене: «О
радость незавершённая! Ворон схватил её и улетел». – «Что значат эти
слова?» – спросила она. И Алаад-дин сказал: «Госпожа, мне осталось сидеть с
тобою только этот час». – «Кто это говорит?» – спросила она; и Ала-ад-дин
ответил: «Твой отец взял с меня расписку на приданое за тебя, на десять тысяч
динаров, и если я не верну их в сегодняшний день, меня запрут в доме кади, а у
меня сейчас коротки руки даже для одной серебряной полушки из этих десяти тысяч
динаров». – «О господин мой, власть мужа у тебя в руках или у них в
руках?» – спросила Зубейда. «Она в моих руках, но у меня ничего нет», –
отвечал Ала-ад-дин. И Зубейда сказала: «Это дело лёгкое, и не бойся ничего, а
теперь возьми эти сто динаров; и если бы у меня было ещё, я бы, право, дала
тебе то, что ты хочешь, но мой отец из любви к своему племяннику перенёс все
свои деньги от меня в его дом, даже мои украшения он все забрал. А когда он
пришлёт к тебе завтра посланного от властей…»
И Шахразаду застигло утро, и она прекратила дозволенные
речи.
Двести пятьдесят седьмая ночь
Когда же настала двести пятьдесят седьмая ночь, она сказала:
«Дошло до меня, о счастливый царь, что женщина говорила Ала-ад-дину: „А когда
он пришлёт к тебе завтра посланного от властей, и кади и мой отец скажут тебе:
„Разводись!“, спроси их: „Какое вероучение позволяет, чтобы я женился вечером и
развёлся утром?“ А потом ты поцелуешь кади руку и дашь ему подарок, и каждому
свидетелю ты также поцелуешь руку и дашь десять динаров, – и все они
станут говорить за тебя. И когда тебя спросят: „Почему ты не разводишься и не
берёшь тысячу динаров, мула и одежду, как следует по условию, которое мы с
тобою заключили?“, ты скажи им: „Для меня каждый её волосок стоит тысячи
динаров, и я никогда не разведусь с нею и не возьму одежды и ничего другого“. А
если кади скажет тебе: „Давай приданое!“, ты ответь: „Я сейчас в затруднении“;
и тогда кади со свидетелями пожалеют тебя и дадут тебе на время отсрочку“.
И пока они разговаривали, вдруг посланный от кади постучал в
дверь, и Ала-ад-дин вышел к нему, и посланный сказал: «Поговори с эфенди,[277] твой тесть тебя требует».
И Ала-ад-дин дал ему пять динаров и сказал: «О пристав,
какой закон позволяет, чтобы я женился вечером и развёлся утром?» – «По-нашему,
это никак не допускается, – ответил пристав, – и если ты не знаешь
закона, то я буду твоим поверенным». И они отправились в суд, и кади спросил
Ала-ад-дина: «Почему ты не разводишься и не берёшь того, что установлено по
условию?» И Ала-ад-дин подошёл к кади и поцеловал ему руку и, вложив в неё
пятьдесят динаров, сказал: «О владыка наш, кади, какое учение позволяет, чтобы
я женился вечером и развёлся утром, против моей воли?» – «Развод по принуждению
не допускается ни одним толком из толков мусульман», – отвечал кади. А
отец женщины сказал: «Если ты не разведёшься, давай приданое – пятьдесят тысяч
динаров». – «Дайте мне отсрочку на три дня», – сказал Ала-ад-дин; а
кади воскликнул: «Срока в три дня недостаточно! Он отсрочит тебе на десять
дней!»
И они согласились на этом и обязали Ала-ад-дина через десять
дней либо отдать приданое, либо развестись.
И он ушёл от них с таким условием и взял мяса и рису, и
топлёного масла, и всего, что требовалось из съестного, и отправился домой и,
войдя к женщине, рассказал ей обо всем, что с ним случилось. «От вечера до дня
случаются чудеса, – сказала ему женщина, – и от Аллаха дар того, кто
сказал:
Будь же кротким, когда испытан ты
гневом,
Терпеливым – когда постигнет
несчастье,
В ваше время беременны ночи жизни
Тяжкой ношей, – они ведь рождают
диво»
А потом она поднялась и приготовила еду и принесла скатерть,
и они стали есть и пить, и наслаждаться, и веселиться; а после этого Ала-ад-дин
попросил её сыграть какую-нибудь музыку, и она взяла лютню и сыграла музыку, от
которой развеселится каменная скала, и струны взывали в помещении: «О любимый»,
и женщина пела и заливалась.
И так они наслаждались, шутили и веселились и
радовались, – и вдруг постучали в ворота.
И женщина сказала Ала-ад-дину: «Встань посмотри, кто у
ворот»; и он пошёл и открыл ворота и увидел, что перед ним стоят четыре
дервиша. «Чего вы хотите?» – спросил он их; и дервиши сказали: «О господин, мы
дервиши из чужих земель, и пища нашей души – музыка и нежные стихи. Мы хотим
отдохнуть у тебя сегодня ночью, до утра, а потом пойдём своей дорогой, а тебе
будет награда от Аллаха великого. Мы любим музыку, и среди нас нет никого, кто
бы не знал наизусть касыд, стихов и строф». – «Я посоветуюсь», –
сказал им Ала-ад-дин и вошёл и осведомил женщину, и она сказала: «Открой им
ворота!»
И Ала-ад-дин открыл дервишам ворота и привёл их и посадил и
сказал им: «Добро пожаловать!», а затем он принёс еду; но они не стали есть и
сказали: «О господин, наша пища – поминание Аллаха в сердцах и слушание певиц
ушами, и от Аллаха дар того, кто сказал: Желаем мы одного: чтоб встретились мы
с тобой, есть-то особенность, животным присущая. Мы слышали у тебя нежную
музыку, а когда мы вошли, музыка прекратилась. О, если бы увидеть, кто та, что
играла музыку: белая или чёрная невольница или же дочь родовитых?» – «Это моя
жена, – ответил Ала-ад-дин и рассказал им обо всем, что с ним случилось, и
сказал: Мой тесть наложил на меня десять тысяч динаров ей в приданое, и мне дали
десять дней отсрочки». – «Не печалься, – сказал один из
дервишей, – и держи в мыслях только хорошее. Я шейх дервишской обители, и
мне подчинены сорок дервишей, над которыми я властвую. Я соберу тебе от них
десять тысяч динаров, и ты сполна выплатишь приданое, которое причитается с
тебя твоему тестю. Но прикажи жене сыграть нам музыку, чтобы мы насладились и
почувствовали бодрость, музыка для некоторых людей – пища, для некоторых –
лекарство, а для некоторых – опахало».
А эти четыре дервиша были халиф Харун ар-Рашид, везирь
Джафар аль-Бармак, Абу-Новас (аль-Хасан ибн Ханн)[278] и Масрур – палач мести; и проходили они
мимо Этого дома потому, что халиф почувствовал стеснение в груди и сказал
своему везирю: «О везирь, мы хотим выйти и пройтись по городу, так как я
чувствую стеснение в груди». И они надели одежду дервишей и вышли в город и
проходили мимо этого дома, и, услышав музыку, захотели узнать истину об этом
деле.
И гости Ала-ад-дина проводили ночь в радости и согласии,
обмениваясь словами, пока не настало утро, и тогда халиф положил сто динаров
под молитвенный коврик, я они попрощались с Ала-ад-дином и ушли своею дорогою.
И женщина подняла коврик и увидела под ним сто динаров и
сказала своему мужу: «Возьми эти сто динаров, которые я нашла под ковриком, дервиши
положили их, прежде чем уйти, и мы не знали об этом».
И Ала-ад-дин взял деньги и пошёл на рынок и купил на них
мяса, и рису, и топлёного масла, и всего, что было нужно.
А на другой день он зажёг свечи и сказал своей жене:
«Дервиши-то не принесли десяти тысяч динаров, которые они мне обещали. Это
просто нищие».
И пока они разговаривали, дервиши вдруг постучали в ворота.
И жена Ала-ад-дина сказала: «Выйди, открой им», – и Ала-ад-дин открыл
ворота и, когда они вошли, спросил: «Вы принесли десять тысяч динаров, которые
вы мне обещали?» – «О, ничего из них не удалось достать, – отвечали
дервиши, – но не бойся дурного: если захочет Аллах великий, мы сварим тебе
завтра химический состав[279].
Прикажи твоей жене дать нам послушать музыку, от которой ободрились бы наши
сердца, так как мы любим музыку».
И Зубейда сыграла им на лютне музыку, от которой Заплясала
бы каменная скала, и они провели время в наслаждении, радости и веселье,
рассказывая друг другу разные истории; и когда взошло утро и засияло светом и
Заблистало, халиф положил под коврик сто динаров, а потом они простились с
Ала-ад-дином и ушли своей дорогой.
И они продолжали ходить к нему таким образом в течение
девяти вечеров, и каждый вечер халиф клал под коврик сто динаров. А когда
подошёл десятый вечер, они не пришли, и причиною их отсутствия было то, что
халиф послал за одним большим купцом и сказал ему:
«Приготовь мне пятьдесят тюков тканей, которые привозят из
Каира…»
И Шахразаду застигло утро, и она прекратила дозволенные
речи.
Двести пятьдесят восьмая ночь
Когда же настала двести пятьдесят восьмая ночь, она сказала:
«Дошло до меня, о счастливый царь, что повелитель правоверных сказал тому
купцу: „Приготовь мне пятьдесят тюков материй, которые приходят из Каира, и
пусть цена каждого тюка будет тысяча динаров. Напиши на каждом тюке, сколько он
стоит, и пришли мне абиссинского раба“.
И купец доставил все, что халиф приказал ему, и потом халиф
дал рабу таз и кувшин из золота, и путевые припасы, и пятьдесят тюков, и
написал письмо от имени Шамс-ад-дина, старшины купцов в Каире, отца Ала-аддина,
и сказал рабу: «Возьми эти тюки и то, что есть с ними, ступай в такой-то
квартал, где дом старшины купцов, и спроси, где господин Ала-ад-дин
Абу-ш-Шамат; люди укажут тебе и квартал и его дом».
И раб взял тюки и то, что было с ними, как велел ему халиф,
и отправился.
Вот что было с ним. Что же касается двоюродного брата
женщины, то он отправился к её отцу и сказал ему: «Идём сходим к Ала-ад-дину,
чтобы развести с ним дочь моего дяди»; и они вышли и пошли с ним и отправились
к Ала-ад-дину.
А достигнув его дома, они увидели пятьдесят мулов и на них
пятьдесят тюков тканей, и раба, сидевшего на муле, и спросили его: «Чьи это
тюки?»
«Моего господина Ала-ад-дина Абу-ш-Шамата, – ответил
раб. – Его отец собрал для него товары и отправил его в город Багдад, и на
него напали арабы и взяли его деньги и тюки, и весть об этом дошла до его отца,
и он послал меня к нему с другими тюками вместо тех, и прислал ему со мною
мула, на которого нагружены пятьдесят тысяч динаров, и узел с платьем, стоящим
больших денег, и соболью шубу, и золотой таз и кувшин». – «Это мой зять, и
я проведу тебя к его дому», – сказал отец девушки.
А Ала-ад-дин сидел в своём доме сильно озабоченный, и вдруг
постучали в ворота. «О Зубейда, – сказал Ала-аддин, – Аллах лучше
знает! Поистине, твой отец прислал ко мне посланца от кади или от вали». –
«Выйди и посмотри, в чем дело», – сказала Зубейда. И Ала-ад-дин спустился
и открыл ворота и увидел своего тестя – старшину купцов, отца Зубейды, и
абиссинского раба с коричневым лицом, приятного видом, который сидел на муле.
И раб спешился и поцеловал ему руки, и Ала-ад-дин спросил
его: «Что ты хочешь?» И раб сказал: «Я раб господина Ала-ад-дина Абу-ш-Шамата,
сына Шамс-ад-дина, старшины купцов в земле египетской, и его отец послал меня к
нему с этим поручением», – и он подал ему письмо; и Ала-ад-дин взял его и
развернул, и увидел, что в нем написано:
«О посланье, когда увидишь любимых,
Поцелуй ты сапог и пол перед ними.
Дай отсрочку, не будь ты с ними
поспешен, —
Ведь и дух мой у них в руках и мой
отдых.»
После совершённого приветствия и привета и уважения от
Шамс-ад-дина его сыну Абу-ш-Шамату. Знай, о дитя моё, что до меня дошла весть
об убиении твоих людей и ограблении твоего имущества и поклажи, и я послал тебе
вместо неё эти пятьдесят тюков египетских тканей, и одежду, и соболью шубу, и
таз и кувшин из золота. Не бойся же беды! Деньги – выкуп за тебя, о дитя моё, и
да не постигнет тебя печаль никогда. Твоей матери и родным живётся хорошо, они
здоровы и благополучны и приветствуют тебя многими приветами. И дошло до меня,
о дитя моё, что тебя сделали заместителем у девушки Зубейды лютнистки и
наложили на тебя ей в приданое пятьдесят тысяч динаров. Эти деньги едут к тебе
вместе с тюками и твоим рабом Селимом».
Окончив читать письмо, Ала-ад-дин принял тюки и, обратившись
к своему тестю, сказал ему: «О мой тесть, возьми пятьдесят тысяч динаров –
приданое за твою дочь Зубейду, и возьми также тюки и распоряжайся ими: прибыль
будет твоя, а основные деньги верни мне». – «Нет, клянусь Аллахом, я
ничего не возьму, а что до приданого твоей жены, то о нем сговорись с
ней», – отвечал купец; и Ала-ад-дин поднялся, и они с тестем вошли в дом,
после того как туда внесли поклажу.
И Зубейда спросила своего отца: «О батюшка, чьи это тюки?» И
он отвечал ей: «Это тюки Ала-ад-дина, твоего мужа, их прислал ему его отец
вместо тех тюков, которые забрали арабы, и он прислал ему пятьдесят тысяч
динаров, и узел с платьем, и соболью шубу, и мула, и таз и кувшин из золота, а
что касается приданого, то решать о нем предстоит тебе».
И Ала-ад-дин поднялся и, открыв сундук, дал Зубейде её
приданое; и тогда юноша, её двоюродный брат, сказал: «О дядюшка, пусть
Ала-ад-дин разведётся с моей женой»; но её отец ответил: «Это уже больше никак
не удастся, раз власть мужа в его руках».
И юноша ушёл огорчённый и озабоченный, и слёг у себя дома,
больной, и было в этом исполнение его судьбы, и он умер.
Что же касается Ала-ад-дина, то, приняв тюки, он пошёл на
рынок и взял всего, что ему было нужно: кушаний, напитков и топлёного масла, и
устроил пир, как и всякий вечер, и сказал Зубейде: «Посмотри на этих лгунов
дервишей: они обещали нам и нарушили обещание». – «Ты сын старшины купцов,
и у тебя были коротки руки для серебряной полушки, так как же быть бедным
дервишам?» – сказала Зубейда; и Ала-ад-дин воскликнул: «Аллах великий избавил
нас от нужды в них, но я больше не открою им ворот, когда они придут к нам!» –
«Почему? – сказала Зубейда. – Ведь благо пришло к нам после их
прихода, и всякую ночь они клали нам под коврик сто динаров. Мы обязательно
откроем им ворота, когда они придут».
И когда свет дня угас и пришла ночь, зажгли свечи, и
Ала-ад-дин сказал: «О Зубейда, начни, сыграй нам музыку». И вдруг постучали в
ворота. «Встань посмотри, кто у ворот», – сказала Зубейда; и Ала-ад-дин
вышел и открыл ворота и увидел дервишей. «А, добро пожаловать, лжецы,
входите!», – воскликнул он; и дервиши вошли с ним, и он посадил их и
принёс им скатерть с кушаньем, и они стали есть и пить, радоваться и
веселиться.
А после этого они сказали ему: «О господин наш, наши сердца
заняты тобою: что у тебя произошло с твоим тестем?» – «Аллах возместил нам
превыше желания», – ответил Ала-ад-дин; и дервиши сказали: «Клянёмся
Аллахом, мы за тебя боялись».
И Шахразаду застигло утро, и она прекратила дозволенные
речи.
Двести пятьдесят девятая ночь
Когда же настала двести пятьдесят девятая ночь, она сказала:
«Дошло до меня, о счастливый царь, что дервиши сказали Ала-ад-дину: „Клянёмся
Аллахом, мы за тебя боялись, и нас удерживало лишь то, что у нас в руках не
было денег“. – „Ко мне пришла помощь от моего господа, и мой отец прислал
мне пятьдесят тысяч динаров и пятьдесят тюков тканей, ценою каждый в тысячу
динаров, и платье, и соболью шубу, и мула, и раба, и таз и кувшин из золота, и
между мной и моим тестем наступил мир, и жена моя мне принадлежит по праву, и
хвала Аллаху за все это“, – ответил Ала-ад-дин.
А затем халиф поднялся, чтобы исполнить нужду, и везирь
Джафар наклонился к Ала-ад-дину и сказал ему: «Соблюдай пристойность: ты
находишься в присутствия повелителя правоверных». – «Что я сделал
непристойного в присутствии повелителя правоверных и кто из вас повелитель
правоверных?», – спросил Ала-ад-дин; и Джафар сказал: «Тот, кто
разговаривал с тобой и поднялся, чтобы исполнить нужду, – повелитель
правоверных, халиф Харун ар-Рашид, а я – везирь Джафар, а это – Масрур, палач
мести, а это Абу-Новас аль-Хасан ибн Хани. Обдумай разумом, о Ала-ад-дин, и
посмотри: на расстоянии скольких дней пути Каир от Багдада?» – «Сорока пяти
дней», – ответил Ала-ад-дин; и Джафар сказал: «Твои тюки отняли у тебя
только десять дней назад, так как же весть об этом достигла до твоего отца и он
собрал тебе тюки, которые покрыли расстояние сорока пяти дней в эти десять
дней?» – «О господин мой, откуда же это пришло ко мне?» – спросил Ала-ад-дин.
«От халифа, повелителя правоверных, по причине его крайней любви к
тебе», – ответил Джафар.
И пока они разговаривали, халиф вдруг вошёл к ним. И
Ала-ад-дин поднялся и поцеловал перед ним землю и сказал: «Аллах да сохранит
тебя, о повелитель правоверных, и да сделает вечной твою жизнь и да не лишит
людей твоих милостей и благодеяний!» – «О Ала-ад-дин, – молвил
халиф, – пусть Зубейда сыграет нам музыку ради сладости твоего
благополучия». И Зубейда играла им на лютне музыку, чудеснейшую среди всего
существующего, пока не возликовали каменные стены и не воззвали струны в
комнате: «О любимый!»
И они провели ночь до утра в самом радостном состоянии, а
когда наступило утро, халиф сказал Ала-ад-дину: «Завтра приходи в диван»[280], и Ала-ад-дин ответил: «Слушаю
и повинуюсь, о повелитель правоверных, если захочет Аллах великий и ты будешь в
добром здоровье!» Ала-ад-дин взял десять блюд и, положив на них великолепный
подарок, пошёл с ними на другой день в диван; и когда халиф сидел на престоле в
диване, вдруг вошёл в двери дивана Ала-ад-дин, говоря такие стихи:
«Приветствует пусть удача тебя в день
всякий
С почётом, хоть завистник недоволен.
И будут дни твои всегда пусть белы,
А дни врагов твоих да будут черны».
«Добро пожаловать, о Ала-ад-дин», – сказал халиф и
Ала-ад-дин ответил: «О повелитель правоверных, пророк – да благословит его
Аллах и да приветствует! – принимал подарки, и эти десять блюд с тем, что
есть на них, – подарок тебе от меня». И халиф принял от него это и велел
дать ему почётную одежду и сделал его старшиной купцов и посадил его в диване,
и когда он там сидел, вдруг вошёл его тесть, отец Зубейды.
И, увидев, что Ала-ад-дин сидит на его месте и на нем
почётная одежда, он сказал повелителю правоверных: «О царь времени, почему этот
молодец сидит на моем месте?» – «Я назначил его старшиной купцов, – сказал
халиф. – Должности жалуются на срок, а не навеки, и ты отстранён». –
«От нас и к нам идёт благо! – воскликнул отец Зубейды. – Прекрасно
то, что ты сделал, о повелитель правоверных, и да поставит Аллах лучших из нас
властителем наших дел. Сколько малых стало великими!» Потом халиф написал
Ала-ад-дину грамоту и дал её вали, и вали отдал грамоту факелоносцу, и тот
возгласил в диване: «Нет старшины купцов, кроме Ала-ад-дина Абу-шШамата! Его
слова должно слушать и хранить к нему почёт, и ему подобает уважение и почтение
и высокое место»
А когда диван разошёлся, вали пошёл с глашатаем перед
Ала-ад-дином, и глашатай кричал: «Нет старшины купцов, кроме господина
Ала-ад-дина Абу-ш-Шамата» И они ходили с ним кругом по площадям Багдада, и
глашатай кричал и говорил: «Нет старшины купцов, кроме господина Ала-ад-дина
Абу-ш-Шамата»
А когда наступило утро, Ала-ад-дин открыл для раба лавку и
посадил его в ней продавать и покупать, а что касается самого Ала-ад-дина, то
он каждый день садился на коня и отправлялся в должность, в диван халифа…»
И Шахразаду застигло утро, и она прекратила дозволенные
речи.
Ночь, дополняющая до двухсот шестидесяти
Когда же настала ночь, дополняющая до двухсот шестидесяти,
она сказала: «Дошло до меня, о счастливый царь, что Ала-ад-дин садился верхом и
отправлялся в должность, в диван халифа.
И случилось однажды, что он сидел, как всегда, на своём
месте, и когда он сидел, вдруг кто-то сказал халифу «О повелитель правоверных,
да живёт твоя голова после такого то твоего сотрапезника, – он преставился
к милости Аллаха великого, а твоя жизнь да будет вечна». – «Где Ала-ад-дин
Абу-ш-Шамат?» – спросил халиф, и Ала ад дин предстал перед ним, и халиф, увидев
Ала ад-дина, наградил его великолепной одеждой, сделал его своим сотрапезником
и предписал выдавать ему содержание в тысячу динаров каждый месяц, и Ала-ад-дин
жил у халифа, разделяя его трапезы.
И случилось так, что в один из дней он сидел, как всегда, на
своём месте, служа халифу, и вдруг вошёл в диван эмир с мечом и щитом и сказал:
«О повелитель правоверных, да живёт твоя голова после главы шестидесяти[281], – он умер в
сегодняшний день». И халиф велел дать Ала-ад-дину почётную одежду и назначил
его главой шестидесяти, на место умершего.
А у главы шестидесяти не было ни жены, ни сына, ни дочери, и
Ала-ад-дин пошёл и наложил руку на его имущество; и халиф сказал Ала-ад-дину:
«Похорони его в земле и возьми все, что он оставил из денег, рабов, невольниц и
слуг».
А затем халиф взмахнул платком, и диван разошёлся, и
Ала-ад-дин вышел, и у его стремени был начальник Ахмед-ад-Данаф – начальник
правой стороны у халифа, со своими сорока приспешниками, а слева от Ала-ад-дина
был Хасан Шуман, начальник левой стороны у халифа, со своими сорока
приспешниками.
И Ала-ад-дин обернулся к Хасану Шуману и его людям и сказал:
«Будьте ходатаями перед начальником Ахмедом-ад-Данафом, – может быть, он
примет меня в сыновья по обегу Аллаху». И начальник принял его и сказал: «Я и
мои сорок приспешников будем ходить перед тобою в диван каждый день».
И Ала-ад-дин оставался на службе у халифа в течение
нескольких дней, и в какой-то день случилось, что Ала-аддин вышел из дивана и
пошёл к себе домой, отпустив Ахмеда-ад-Данафа и тех, кто был с ними, идти своей
дорогой. И он сел со своей женой Зубейдой-лютнисткой и зажёг свечи, и после
этого она поднялась, чтобы исполнить нужду, а Ала-ад-дин сидел на месте. И
вдруг он услышал великий крик, и поспешно поднялся, чтобы посмотреть, кто это
кричал, и увидел, что кричала его жена Зубейда-лютнистка и что она лежит на
земле. И Ала-аддин положил руку ей на грудь, и оказалось, что она мертва.
А дом её отца был перед домом Ала-ад-дина, и отец услышал её
крики и спросил: «В чем дело, господин мой Ала-ад-дин?» – «Да живёт твоя
голова, о батюшка, после твоей дочери Зубейды, – ответил
Ала-ад-дин, – но уважение к мёртвому, о батюшка, состоит в том, чтобы
Зарыть его».
И когда настало утро, Зубейду схоронили в земле, и
Ала-ад-дин стал утешать её отца, а отец утешал Ала-аддина.
Вот что было с Зубейдой-лютнисткой. Что же касается
Ала-ад-дина, то он надел одежды печали и удалился из дивана, и глаза его стали
плачущими, а сердце печальным.
И халиф спросил: «О везирь, по какой причине Алаад-дин
удалился из дивана?» И везирь ответил: «О повелитель правоверных, он горюет по
своей жене Зубейде и Занят, принимая соболезнования». – «Нам следует
выказать ему соболезнование», – сказал халиф везирю; и везирь ответил:
«Слушаю и повинуюсь!» И халиф с везирем и несколькими слугами вышли и сели
верхом и отправились к дому Ала-ад-дина.
И Ала-ад-дин сидел и вдруг видит – халиф и везирь и те, кто
был с ними, приближаются к нему. И он встал им навстречу и поцеловал землю
перед халифом, и халиф сказал ему: «Да возместит тебе Аллах благом!» А
Ала-аддин отвечал: «Да продлит Аллах для нас твою жизнь, о повелитель
правоверных». – «О Ала-ад-дин, – спросил халиф, – почему ты
удалился из дивана?» – «Из-за печали по моей жене Зубейде, о повелитель
правоверных», – ответил Ала-ад-дин; и халиф сказал: «Прогони от души заботу.
Твоя жена умерла по милости великого Аллаха, и печаль тебе ничем не
поможет». – «О повелитель правоверных, я оставлю печаль по ней только
тогда, когда умру и меня зароют возле неё», – сказал Ала-аддин; и халиф
молвил: «Поистине, в Аллахе замена всему минувшему, и не освободят от смерти ни
ухищрения, ни деньги! От Аллаха дар того, кто сказал:
Ведь всех, кто женой рождён, хоть
длительно счастье их,
Когда-нибудь понесут на ложе
горбатом,
И как веселиться тем и жить в
наслаждении,
Кому на ланиты прах и землю
насыплют?»
И халиф, кончив утешать Ала-ад-дина, наказал ему не
удаляться из дивана и отправился в своё жилище, а Алаад-дин проспал ночь, а
когда наступило утро, сел на коня и поехал в диван. И он вошёл к халифу и
поцеловал перед ним землю, и халиф пошевелился ради Ала-ад-дина на престоле и
сказал ему: «Добро пожаловать! – и приветствовал его и посадил его на
место и молвил: – О Алаад-дин, ты мой гость сегодня вечером».
И потом он пошёл с ним к себе во дворец и, призвав одну
невольницу по имени Кут-аль-Кулуб, сказал ей: «У Ала-ад-дина была жена по имени
Зубейда, которая развлекала его в горе и заботе. Она умерла по милости великого
Аллаха, и я хочу, чтобы ты сыграла ему музыку на лютне…»
И Шахразаду застигло утро, и она прекратила дозволенные
речи.
Двести шестьдесят вторая ночь
Когда же настала двести шестьдесят вторая ночь[282], она сказала: «Дошло до
меня, о счастливый царь, что халиф сказал невольнице Кут-аль-Куч „Я хочу, чтобы
ты сыграла ему музыку на лютне, чудеснейшую среди всего существующего, и он бы
утешился в заботе и печали“.
И невольница начала и сыграла диковинную музыку; и халиф
молвил: «Что скажешь, Ала-ад-дин, о голосе этой невольницы?» – «У Зубейды голос
лучше, чем у неё, но она искусница в игре на лютне, так что из-за неё ликуют
каменные скалы», – ответил Ала-ад-дин. И халиф спросил: «Она тебе
нравится?» – «Нравится, о повелитель правоверных», – ответил Ала-ад-дин; и
халиф воскликнул: «Клянусь жизнью моей головы и могилой моих дедов, она подарок
тебе от меня – и она и её невольницы».
И Ала-ад-дин подумал, что халиф шутит с ним, а наутро халиф
вошёл к своей невольнице Кут-аль-Кулуб и сказал ей: «Я подарил тебя
Ала-ад-дину»; и она обрадовалась этому, так как видела Ала-ад-дина и полюбила
его.
Потом халиф перешёл из дворцового помещения в диван и,
призвав носильщиков, сказал им: «Перенесите пожитки Кут-аль-Кулуб в дом
Ала-ад-дина и посадите её в носилки вместе с её невольницами»; и они перевезли
её с невольницами и пожитками в дом Ала-ад-дина и привели её во дворец, а халиф
просидел в помещении суда до конца дня, и затем диван разошёлся, и он ушёл к
себе во дворец.
Вот что было с халифом; что же касается Кут-альКулуб, то,
войдя во дворец Ала-ад-дина со своими невольницами (а их было сорок невольниц,
кроме евнухов), она сказала двум евнухам: «Один из вас сядет на скамеечку
справа от ворот, а другой сядет на скамеечку слева, и когда придёт Ала-ад-дин,
поцелуйте ему руки и скажите ему: „Наша госпожа, Кут-аль-Кулуб, просит тебя во
дворец. Халиф подарил её тебе вместе с её невольницами“.
И евнухи ответили: «Слушаем и повинуемся!» – и сделали гак,
как она им велела. И когда Ала-ад-дин пришёл, он увидел двух евнухов халифа,
которые сидели у ворот.
И он нашёл это диковинным и сказал про себя: «Может быть,
это не мой дом? А иначе в чем же дело?» И евнухи, увидя его, поднялись и
поцеловали ему руки и сказали: «Мы люди халифа, невольники Кут-аль-Кулуб. Она
приветствует тебя и говорит тебе, что халиф подарил её тебе вместе с её
невольницами. И она просит тебя к себе». – «Скажите ей: „Добро пожаловать
тебе, но только, пока ты у него, он не войдёт во дворец, в котором ты
находишься, так как то, что принадлежит господину, не годится для слуг“, –
отвечал Ала-ад-дин, – и спросите её: „Как велики были твои расходы у
халифа каждый день“.
И евнухи пошли к ней и спросили её об этом, и она сказала:
«Каждый день сто динаров». И Ала-ад-дин подумал про себя: «Не было мне нужды,
чтобы халиф дарил мне Кут-аль-Кулуб и я тратил бы на неё такие деньги, но,
однако, тут не ухитришься». И Кут-аль-Кулуб провела у него несколько дней, и он
выдавал ей каждый день сто динаров. И в один из дней Ала-ад-дин не явился в
диван, и халиф сказал: «О везирь Джафар, я подарил Кут-альКулуб Ала-ад-дину
лишь для того, чтобы она его утешала в потере жены; почему же он удалился от
нас?» – «О повелитель правоверных, – отвечал везирь, – правду сказал
сказавший: кто встретит любимых, забудет друзей». И халиф молвил: «Может быть,
его отсутствию есть оправдание. Мы навестим его».
А за несколько дней до этого Ала-ад-дин сказал везирю: «Я
пожаловался халифу, что чувствую печаль по моей жене Зубейде-лютнистке, и он
подарил мне Кут-альКулуб». – «Если бы халиф не любил тебя, он бы тебе её
не подарил, – сказал везирь. – А ты уже входил к ней, о Ала-ад-дин?»
– «Нет, клянусь Аллахом, я ещё не входил к ней», – ответил Ала-ад-дин; и
везирь спросил: «Почему Это?» А Ала-ад-дин молвил: «То, что годится господину,
не годится для слуг».
Потом халиф и Джафар перерядились и пошли навестить
Ала-ад-дина, и шли до тех пор, пока не пришли к нему.
И Ала-ад-дин узнал их и, поднявшись, поцеловал халифу руки;
халиф, увидя его, обнаружил в нем признаки печали и сказал; «О Ала-ад-дин,
какова причина печали, что охватила тебя? Разве ты ещё не входил к
Кут-альКулуб?» – «О повелитель правоверных, – ответил Алаад-дин, –
что годится господину, не годится для слуг, и я до сих пор не входил к ней и не
отличаю в ней длины от ширины. Избавь же меня от неё!» – «Я желаю с ней
повидаться и спросить её о её положении», – сказал халиф. И Ала-аддин
ответил: «Слушаю и повинуюсь, о повелитель правоверных!» И халиф вошёл к Кут-аль-Кулуб…»
И Шахразаду застигло утро, и она прекратила дозволенные
речи.
Двести шестьдесят третья ночь
Когда же настала двести шестьдесят третья ночь, она сказала:
«Дошло до меня, о счастливый царь, что халиф вошёл к Кут-аль-Кулуб, и, увидав
его, она поднялась и поцеловала перед ним землю. „Входил к тебе Алаад-дин?“ –
спросил её халиф; и она ответила: „Нет, о повелитель правоверных. Я послала
просить его, чтобы он вошёл, но он не согласился“.
И халиф велел ей возвратиться во дворец и сказал
Ала-ад-дину: «Не удаляйся от нас!»
И потом халиф отправился к себе домой, а Ала-ад-дин проспал
эту ночь, а утром он сел на коня и отправился в диван и занял место главы
шестидесяти.
А халиф велел своему казначею выдать везирю Джафару десять
тысяч динаров; и казначей дал ему это количество денег, и халиф сказал Джафару:
«Поручаю тебе сходить на рынок невольниц и купить Ала-ад-дину невольницу на эти
десять тысяч динаров». И Джафар последовал приказу халифа и вышел и, взяв с
собою Ала-ад-дина, пошёл с ним на рынок невольниц.
И случилось, что в этот день вали Багдада, назначенный
халифом (а звали его эмир Халид), пошёл на рынок, чтобы купить невольницу для
своего сына, и причиной этого было вот что. У вали была жена по имени Хатун, и
ему достался от неё сын, безобразный видом, которого звали Хабазлам Баззаза. И
он достиг возраста двадцати лет и ещё не умел ездить на коне, а его отец был
смельчак, неприступный владыка, и ездил на конях, и погружался в море ночного
боя.
И однажды ночью Хабазлам Баззаза спал и осквернился, и он рассказал
об этом своей матери; и та обрадовалась и сообщила об этом его отцу и сказала:
«Я хочу, чтобы мы его женили: он стал годен для брака». – «Он безобразен
видом, дурно пахнет, грязен и дик, и его не примет ни одна женщина», –
ответил отец Хабазлама; и мать его сказала: «Мы купим ему невольницу».
И по велению, предопределённому Аллахом великим, в тот день,
когда пошли на рынок везирь и Ала-ад-дин, туда потел и эмир Халид, вали, со
своим сыном Хабазламом Баззазой; и когда они были на рынке, вдруг появилась с
одним из посредников невольница – красивая, прелестная, стройная и соразмерная,
и везирь сказал: «О посредник, предложи за неё тысячу динаров!»
И посредник прошёл с нею мимо вали, и Хабазлам Баззаза
посмотрел на неё взглядом, оставившим после себя тысячу вздохов, и любовь к ней
овладела им. «О батюшка, – сказал он, – купи мне эту невольницу». И
посредник стал зазывать, а вали спросил, как зовут девушку; и она отвечала:
«Моё имя Ясмин». – «О дитя моё, – сказал ему отец, – если она
тебе нравится, набавляй цену». – «О посредник, какова твоя цена?» –
спросил он. «Тысяча динаров», – отвечал посредник. «С меня тысяча динаров
и динар», сказал юноша. А когда очередь дошла до Ала-ад-дина, тот предложил за
девушку две тысячи, и всякий раз, как юноша, сын вали, набавлял цену на динар,
Ала-ад-дин прибавлял тысячу динаров.
И сын вали рассердился и спросил: «О посредник, кто
набавляет против меня цену за эту девушку?» И посредник ответил: «Везирь Джафар
хочет купить её для Алаад-дина Абу-ш-Шамата».
И Ала-ад-дин предложил за невольницу десять тысяч динаров, и
хозяин уступил ему девушку и получил за неё деньги; и Ала-ад-дин взял
невольницу и сказал ей: «Я освобождаю тебя ради лика Аллаха великого», – и
затем он написал свой брачный договор с нею и отправился домой.
И посредник вернулся с платой за посредничество, и сын вали
позвал его и спросил: «Где невольница?» – «Её купил Ала-ад-дин за десять тысяч
динаров, и он освободил её и написал свой договор с нею», – отвечал
посредник. И юноша огорчился, и печаль его увеличилась, и он вернулся домой
больным от любви к ней, и бросился на постель, и расстался с пищей, и его
любовь и страсть усилились.
И, увидев, что он заболел, мать его спросила: «Сохрани тебя
Аллах, о дитя моё, какова причина твоей болезни?» – «Купи мне Ясмин, о
матушка», – ответил он; и его мать сказала: «Когда пройдёт человек с
цветами, я куплю тебе корзинку жасмину». – «Это не тот жасмин, который
нюхают, это невольница по имени Ясмин, которую мне не купил отец!» – воскликнул
юноша. И его мать спросила мужа: «Почему ты не купил ему эту невольницу?» –
«Что годится господину, не годится для слуг. И у меня нет власти взять её: её
купит не кто иной, как Ала-ад-дин, глава шестидесяти», – ответил вали.
И болезнь юноши усилилась, так что он перестал спать и
расстался с пищей. И его мать повязалась повязками печали.
И когда она сидела в своём доме, горюя из-за сына, вдруг
вошла к ней одна старуха, которую звали «мать Ахмед Камакима-вора». А этот вор
просверлил средние стены, и карабкался на верхние стены, и похищал сурьму с
глаз, и эти мерзкие качества были у него с самого начала; а потом его сделали
начальником стражи, и он украл вещь и попался с нею, и вали напал на него и
захватил его и доставил к халифу.
И халиф велел убить его на поляне крови, но Ахмед прибегнул
к защите везиря (а ходатайство везиря перед халифом не отвергалось), и везирь
заступился за него. И халиф спросил: «Как ты заступаешься за бедствие, которое
вредит людям?» – «О повелитель правоверных, – сказал везирь, –
заключи его в тюрьму. Тот, кто построил тюрьму, был мудрец, так как
тюрьма-могила для живых и радость для врагов».
И халиф велел наложить на Ахмеда цепи и написать на его
цепях: «Навеки, до смерти, и он будет раскован лишь на скамье обмывальщика»[283] и Ахмеда посадили,
закованного, в тюрьму.
А его мать была вхожа в дом эмира Халида, вали, и заходила к
своему сыну в тюрьму и говорила ему: «Не говорила ли я тебе: „Отступись от
запретного!“ А он отвечал ей: „Это предопределил мне Аллах, но когда ты, о
матушка, пойдёшь к жене вали, пусть она заступится за меня перед ним“.
И когда старуха вошла к жене вали, она увидела, что та
повязана повязками печали, и спросила: «О чем ты печалишься?» – «О гибели моего
сына Хабазлама Баззазы», – ответила жена вали. «Сохрани Аллах твоего сына!
А что с ним случилось?» – спросила старуха, и жена вали рассказала ей всю
историю, и старуха спросила: «Что ты скажешь о том, кто сыграет шутку, в
которой будет спасение твоего сына?» – «А что ты сделаешь?» – спросила жена
вали; и старуха сказала: «У меня есть сын по имени Ахмед Камаким-вор, и он
сидит закованный в тюрьме, и на цепях у него написано: „Навеки, до смерти“.
Встань и надень лучшее, что у тебя есть, и украсься самыми лучшими украшениями,
и встреть своего мужа весело и приветливо, а когда он потребует от тебя того,
что требуют мужчины от женщин, откажи ему и не давай этого сделать и скажи: „О
диво Аллаха! Когда мужчине есть нужда до жены, он пристаёт к ней, пока не
удовлетворит нужду с нею, а когда жене что-нибудь нужно от мужа, он не
исполняет этого“. И муж спросит тебя: „А что тебе нужно?“ И ты скажи: „Сначала
поклянись мне“; и когда он тебе поклянётся жизнью своей головы и Аллахом, скажи
ему: „Поклянись разводом со мною“, – и не соглашайся, пока он не
поклянётся тебе разводом; а когда он поклянётся тебе разводом, скажи ему: „У
тебя в тюрьме заключён один начальник по имени Ахмед Камаким, и у него есть
бедная мать, и она упала передо мной ниц и направила меня к тебе и сказала:
«Пусть вали заступится за него перед халифом, чтобы халиф простил его, и ему бы
досталась награда“. И мать Хабазлама ответила ей:
«Слушаю и повинуюсь!» И когда вали вошёл к своей жене…»
И Шахразаду застигло утро, и она прекратила дозволенные
речи.
Двести шестьдесят четвёртая ночь
Когда же настала двести шестьдесят четвёртая ночь, она
сказала: «Дошло до меня, о счастливый царь, что, когда вали вошёл к своей жене,
она сказала ему все это, и он поклялся ей разводом, и тогда она позволила ему,
и он провёл подле неё ночь, а когда наступило утро, вали омылся и, совершив
утреннюю молитву, пришёл в тюрьму и сказал: „О Ахмед Камаким, о вор,
раскаиваешься ли ты в том, что сделал?“ – „Я раскаялся перед Аллахом и
отступился и прошу сердцем и языком прощения у Аллаха“, – ответил Ахмед. И
вали выпустил его из тюрьмы и взял его с собой в диван, закованного в цепи.
И он подошёл к халифу и поцеловал перед ним землю, и халиф
спросил: «О эмир Халид, чего ты просишь?» И вали поставил Ахмеда Камакима,
который шёл в цепях, перед халифом, и халиф спросил: «О Камаким, ты до сих пор
жив?» – «О повелитель правоверных, – ответил Ахмед, – жизнь
несчастного медлительна»; и халиф молвил: «О эмир Халид, зачем ты его привёл
сюда?» – «У него бедная, одинокая мать, у которой никого нет, кроме
него, – ответил эмир, – и она пала ниц перед твоим рабом, чтобы он
походатайствовал у тебя, о повелитель правоверных, и ты бы освободил от цепей
её сына. Он раскается в том, что было, и ты сделаешь его начальником стражи,
как прежде». – «Ты раскаялся в том, что было?» – спросил халиф Ахмеда
Камакима; и тот ответил: «Я раскаялся перед Аллахом, о повелитель правоверных»;
и тогда халиф велел привести кузнеца и расковать цепи Ахмеда на скамье
обмывальщика.
Он сделал Ахмеда начальником стражи и наказал ему хорошо
вести себя и поступать прямо, и Ахмед поцеловал халифу руки и вышел с одеждой
начальника стражи, и про него прокричали о том, что он начальник. И он пробыл
некоторое время в своей должности, а потом его мать пришла к жене вали, и та
сказала ей: «Слава Аллаху, который освободил твоего сына из тюрьмы здоровым и
благополучным! Почему же ты не говоришь ему, чтобы он что-нибудь устроил и
привёл бы невольницу Ясмин к моему сыну Хабазламу Баззазе?» – «Я скажу
ему», – ответила старуха и, уйдя от неё, пришла к своему сыну. И она нашла
его пьяным и сказала: «О дитя моё, причина того, чтобы ты освободился из тюрьмы,
только в жене вали, и она хочет от тебя, чтобы ты что-нибудь для неё устроил и
убил бы Ала-ад-дина Абу-ш-Шамата и привёл бы невольницу Ясмин к её сыну
Хабазламу Баззазе».
«Это легче всего, что бывает, – ответил Ахмед. – Я
обязательно устрою что-нибудь сегодня ночью».
А эта ночь была первой ночью месяца, и у халифа был обычай
проводить её подле госпожи Зубейды[284] по
случаю освобождения невольницы, или невольника, или чего-нибудь подобного
этому, и ещё у халифа был обычай снимать царское платье и оставлять чётки и
кортик и перстень власти и класть все это на престол в приёмной комнате.
А у халифа был золотой светильник с тремя драгоценными
камнями, нанизанными на золотую цепочку, и этот светильник был халифу дорог. И
халиф поставил евнухов сторожить одежду и светильник и остальные вещи и вошёл в
комнату госпожи ЗуббядмА Ахмед Камаким-вор выждал, пока пришла полночь, и
засияла звезда Канопус, и твари заснули, и творец опустил на них покрывало, а
затем он обнажил меч и взял его в правую руку, а в левую взял крюк и, подойдя к
приёмной комнате халифа, взял верёвочную лестницу, Закинул крюк на стену
приёмной комнаты, взобрался по лестнице на крышу, и поднял подъёмную доску над
комнатой, и спустился туда.
И он нашёл евнухов спящими и, одурманив их, взял одежду халифа,
чётки, кортик, платок, перстень и светильник, на котором были камни, и вышел
через то место, откуда вошёл, и отправился к дому Ала-ад-дина Абу-шШамата. А
Ала-ад-дин в эту ночь был занят свадьбою с девушкой, и он вошёл к ней, и она
ушла от него беременной.
И Ахмед Камаким-вор спустился в комнату Ала-аддина и,
выломав мраморную доску в нижней части комнаты, выкопал под ней яму и положил
туда часть вещей, а часть оставил у себя. Потом он заделал мраморную доску, как
было, и вышел через то место, откуда вошёл, говоря про себя: «Я сяду и напьюсь,
и поставлю светильник перед собой, и буду пить чашу при его свете».
И потом он отправился домой, а когда наступило утро, халиф
вошёл в приёмную комнату и увидел, что евнухи одурманены, и разбудил их и
протянул руку, но не нашёл ни одежды, ни перстня, ни чёток, ни кортика, ни
платка, ни светильника.
И халиф разгневался из-за этого великим гневом и надел
одежду ярости (а это была красная одежда), и сел в диване; и везирь подошёл и
поцеловал перед ним землю и сказал: «Да избавит Аллах от зла повелителя
правоверных!» И халиф воскликнул: «О везирь, зло велико». – «Что
произошло?»
спросил везирь; и халиф рассказал ему обо всем, что
случилось. И вдруг подъехал вали, и у его стремени был Ахмед Камаким-вор.
И вали нашёл халифа в великом гневе, а халиф, увидев вали,
спросил его: «О эмир Халид, как дела в Багдаде?» – «Все благополучно и
безопасно», – отвечал вали. «Ты лжёшь», – сказал халиф; и вали
спросил: «Почему, о повелитель правоверных?» И халиф рассказал ему, что
случилось, и молвил: «Ты обязан принести мне все Это!» – «О повелитель
правоверных, – сказал вали, – червяки в уксусе оттуда происходят и
там остаются и я чужой никак не может забраться в это место». – «Если ты
не принесёшь мне эти вещи, я убью тебя», – сказал халиф; и вали молвил:
«Прежде чем убивать меня, убей Ахмеда Камакима-вора, так как никто не знает
воров и обманщиков, кроме начальника стражи».
И Ахмед Камаким поднялся и сказал халифу: «Заступись за меня
перед вали, и я отвечаю тебе за того, кто украл, и буду выискивать его след,
пока не узнаю, кто он. Но только дай мне двух судей и двух свидетелей: тот, кто
сделал это дело, не боится ни тебя, ни вали, ни кого-нибудь другого». –
«Тебе будет то, что ты просишь, – сказал халиф, – но только первый
обыск будет в моем дворце, а потом во дворце везиря и во дворце главы
шестидесяти». – «Ты прав, о повелитель правоверных, может быть окажется,
что тот, кто сотворил эту проделку, воспитался во дворце повелителя правоверных
или во дворце кого-нибудь из его приближённых», – сказал Ахмед Камаким. И
халиф воскликнул: «Клянусь жизнью моей головы, всякий, у кого объявятся эти
вещи, будет обязательно убит, хотя бы это был мой сын!»
И затем Ахмед Камаким взял то, что он хотел, и получил
грамоту на право врываться в дома и обыскивать их.
И Шахразаду застигло утро, и она прекратила дозволенные
речи.
Двести шестьдесят пятая ночь
Когда же настала двести шестьдесят пятая ночь, она сказала:
«Дошло до меня, о счастливый царь, что Ахмед Камаким взял то, что он хотел, и
получил фирман на право врываться в дома и обыскивать их. И он пошёл, держа в
руках трость, треть которой была из бронзы, треть из меди и треть из железа, и
обыскал дворец халифа и дворец везиря Джафара и обходил дома царедворцев и
привратников, пока не прошёл мимо дома Ала-ад-дина Абу-ш-Шамата.
И, услышав шум перед домом, Ала-ад-дин поднялся от Ясмин,
своей жены, и вышел, и, открыв ворота, увидел вали в большом смущении. «В чем
дело, о эмир Халид?» – спросил он; вали рассказал ему все дело, и Ала-ад-дин
сказал: «Входите в дом и обыщите его». Но вали воскликнул: «Прости, господин!
Ты верный, и не бывать тому, чтобы верный оказался обманщиком». –
«Обыскать мой дом необходимо», – сказал Ала-ад-дин. И вали вошёл с судьями
и свидетелями, и тогда Ахмед Камаким пошёл в нижнюю часть комнаты и, подойдя к
мраморной плите, под которой он зарыл вещи, нарочно опустил на плиту трость. И
плита разбилась, и вдруг увидели, что под нею что-то светится, и начальник
воскликнул: «Во имя Аллаха! Как захочет Аллах! По благословению нашего прихода,
нам открылось сокровище. Вот я спущусь к этому кладу и посмотрю, что там есть».
И судья со свидетелями посмотрели в это место и нашли все
вещи полностью и написали бумажку, в которой стояло, что они нашли вещи в доме
Ала-ад-дина, и приложили к этой бумажке свою печать.
И Ала-ад-дина приказали схватить, и сняли у него с головы
тюрбан, и все его имущество и достояние записали в опись, и Ахмед Камаким
схватил невольницу Ясмин (а она была беременна от Ала-ад-дина) и отдал её своей
матери и сказал: «Передай её Хатун, жене вали».
И старуха взяла Ясмин и привела её к жене вали. И когда
Хабазлам Баззаза увидел её, к нему снова пришло здоровье, и он в тот же час и
минуту встал и сильно обрадовался.
И он приблизился к девушке, но она вытащила из-за пояса
кинжал и сказала: «Отдались от меня, или я тебя убью и убью себя!»
И мать его Хатун воскликнула: «О распутница, дай моему сыну
достигнуть с тобою желаемого!» А Ясмин сказала: «О сука, какое вероучение
позволяет женщине выйти замуж за двоих и кто допустит собак войти в жилище
львов?»
И страсть юноши ещё увеличилась, и он так ослаб от любви и
волнения, что расстался с едой и слёг на подушки; и тогда жена вали сказала
Ясмин: «О распутница, как это ты заставляешь меня печалиться о моем сыне? Тебя
непременно надо помучить, а что до Ала-ад-дина, то его обязательно
повесят». – «Я умру и буду любить его», – воскликнула невольница. И
тогда жена вали сняла с неё бывшие на ней драгоценности и шёлковые одежды и
одела её в парусиновые штаны и волосяную рубашку и поселила на кухне, сделав её
одной из девушек-прислужниц.
«В наказанье ты будешь колоть дрова, чистить овощи и
подкладывать огонь под горшки», – сказала она; и Ясмин ответила: «Я
согласна на всякую пытку и работу, но не согласна видеть твоего сына». И Аллах
смягчил к вей сердца невольниц, и они стали исполнять за неё работу на кухне.
Вот что было с Ясмин. Что же касается Ала-ад-дина
Абу-ш-Шамата, то его взяли с вещами халифа и повели, и вели до тех пор, пока не
дошли с ним до дивана.
И халиф сидел на престоле и вдруг видит, что они ведут
Ала-ад-дина, и с ним те вещи. «Где вы их нашли?» – спросил халиф; и ему
сказали: «Посреди дома Ала-аддина Абу-ш-Шамата».
И халиф пропитался гневом и взял вещи, но не нашёл среди них
светильника. И он спросил: «О Ала-ад-дин, где светильник?» И Ала-ад-дин
отвечал: «Я не крал, и не знаю, и не видел, и нет у меня об этом сведений». И
халиф воскликнул: «Как, обманщик, я приближаю тебя к себе, а ты меня от себя
отдаляешь, и я тебе доверяю, а ты меня обманываешь»? И затем он велел его
повесить.
И вали вышел, а глашатай кричал об Ала-ад-дине: «Вот
возмездие, и наименьшее возмездие, тем, кто обманывает прямоидущих халифов!» И
люди собрались около виселицы.
Вот что было с Ала-ад-дином. Что же касается
Ахмедаад-Данафа, старшего над Ала-ад-дином, то он сидел со своими приспешниками
в саду; и пока они сидели, наслаждаясь и радуясь, вдруг вошёл к ним один
человек – водонос из водоносов, которые в диване, и поцеловал Ахмеду-ад-Данафу
руку и сказал: «О начальник Ахмед-адДанаф, ты сидишь и веселишься, а беда у тебя
под ногами, но ты не знаешь, что произошло». – «В чем дело?» – спросил
Ахмед-ад-Данаф; и водонос сказал: «Твоего сына по обету Аллаху, Ала-ад-дина,
повели на виселицу». – «Какая будет у тебя хитрость, о Хасан Шуман?» –
спросил Ахмед-ад-Данаф; и Хасан сказал: «Ала-ад-дин невиновен в этом деле, и
это проделки какого-нибудь врага». – «Что, по-твоему, делать?» – спросил
Ахмед-ад-Данаф. «Спасение его лежит на нас, если захочет владыка», –
ответил Хасан; а затем Хасан Шуман пошёл в тюрьму и сказал тюремщику: «Выдай
нам кого-нибудь, кто заслуживает смерти». И тюремщик выдал ему одного человека,
более всех тварей похожего на Ала-ад-дина Абу-ш-Шамата, и Хасан закрыл ему
голову, и Ахмед-ад-Данаф повёл его между собою и Али-Зейбаком, каирцем.
А Ала-ад-дина повели, чтобы повесить; и тут Ахмед-адДанаф
подошёл к палачу и наступил ногою ему на ногу, и палач сказал ему: «Дай мне
место, чтобы я мог сделать своё дело!»; а Ахмед-ад-Данаф молвил: «О проклятый,
возьми этого человека и повесь его вместо Ала-ад-дина Абу-ш-Шамата: он
несправедливо обижен, и мы выкупим Исмаила барашком»[285].
И палач взял того человека и повесил его вместо Алаад-дина,
а потом Ахмед-ад-Данаф и Али-Зейбак, каирец, взяли Ала-ад-дина и отвели в
комнату Ахмеда-ад-Данафа.
И когда они вошли, Ала-ад-дин сказал: «Да воздаст тебе Аллах
благом, о старший!» И Ахмед спросил его: «О Ала-ад-дин, что это за дело ты
сделал?..»
И Шахразаду застигло утро, и она прекратила дозволенные
речи.
Двести шестьдесят шестая ночь
Когда же настала двести шестьдесят шестая ночь, она сказала:
«Дошло до меня, о счастливый царь, что Ахмед-ад-Данаф спросил Ала-ад-дина: „Что
это за дело ты сделал? Аллах да помилует сказавшего: того, кто тебе доверился,
не обманывай, даже если ты обманщик. Халиф дал тебе у себя власть и назвал тебя
верным и надёжным, почему же ты поступаешь с ним так и берёшь его вещи?“ –
„Клянусь величайшим именем Аллаха, о старший“ – воскликнул Ала-ад-дин, –
это не моя проделка, и я в ней неповинен и не знаю, кто это сделал!» – «Это
дело сделал не кто иной, как явный враг, – сказал Ахмед-ад-Данаф, – и
кто это сделал, тому воздаётся за это. Но тебе, Ала-ад-дин, нельзя больше
пребывать в Багдаде: с царями не враждуют, о дитя моё; и кого ищут цари – о,
как долги для того тягостны!» – «Куда я пойду, о старший?» – спросил Ала-ад-дин;
и Ахмед-ад-Данаф молвил: «Я доставлю тебя в аль-Искандарию[286] – это город благословенный, и подступы к
нему зеленые, и жизнь там приятная». И Ала-ад-дин отвечал: «Слушаю и повинуюсь,
о старший!» И тогда Ахмед-ад-Данаф сказал Хасану Шуману: «Будь настороже, и
когда халиф спросит обо мне, скажи ему: он уехал объезжать земли».
После этого Ахмед взял Ала-ад-дина и вышел из Багдада, и они
шли до тех пор, пока не достигли виноградников и садов. И они увидели двух
евреев из откупщиков халифа, которые ехали верхом на мулах, и Ахмед-ад-Данаф
сказал евреям: «Давайте плату за охрану». – «За что мы будем давать тебе
плату?» – спросили евреи; и Ахмед сказал: «Я сторож в этой долине». И каждый из
евреев дал ему сто динаров, а после этого Ахмед-ад-Данаф убил их и, взяв мулов,
сел на одного, и Ала-ад-дин тоже сел на мула.
И они поехали в город Айяс[287] и отвели мулов в хан и проспали там ночь, а
когда настало утро, Ала-ад-дин продал своего мула и поручил мула
Ахмеда-ад-Данафа привратнику; и они взошли на корабль в гавани Айяса и достигли
аль-Искандарии.
И Ахмед-ад-Данаф с Ала-ад-дином вышли и пошли по рынку – и
вдруг слышат: посредник предлагает лавку с комнатой внутри за девятьсот
пятьдесят динаров.
«Даю тысячу», – сказал тогда Ала-ад-дин, и продавец
уступил ему (а лавка принадлежала казне); и Ала-аддин получил ключи, и отпер
лавку, и отпер комнату, и оказалось, что она устлана коврами и подушками, и он
увидел там кладовую, где были паруса, мачты, канаты, сундуки и мешки,
наполненные скорлупками и раковинами, стремена, топоры, дубины, ножи, ножницы и
другие вещи, так как владелец лавки был старьёвщиком.
И Ала-ад-дин Абу-ш-Шамат сел в лавке, и Ахмед-адДанаф сказал
ему: «О дитя моё, лавка и комната и то, что в ней есть, стали твоим достоянием.
Сиди же в ней, покупай и продавай – и не сомневайся, ибо Аллах великий
благословил торговлю».
И Ахмед-ад-Данаф оставался у Ала-ад-дина три дня, а на
четвёртый день он простился с ним и сказал: «Живи Здесь, пока я съезжу и
вернусь к тебе с вестью от халифа о пощаде и высмотрю, кто проделал с тобой
такую штуку».
И потом Ахмед-ад-Данаф отправился в путь и, достигнув Айяса,
взял своего мула из хана и поехал в Багдад. И он встретился там с Хасаном
Шуманом и его приспешниками и сказал: «О Хасан, халиф спрашивал обо мне?» И
Хасан отвечал: «Нет, и мысль о тебе не приходила ему на ум». И Ахмед-ад-Данаф
остался служить халифу и стал разведывать новости. И он увидел, что халиф
обратился в один из дней к везирю Джафару и сказал ему: «Посмотри, о везирь,
какое дело сделал со мной Ала-аддин». И везирь ответил ему: «О повелитель
правоверных, ты воздал ему за Это повешением, и возмездие ему то, что его
постигло». – «О везирь, я хочу выйти и посмотреть на него,
повешенного», – сказал халиф; и везирь молвил: «Делай, что хочешь, о
повелитель правоверных». И тогда халиф и с ним везирь Джафар пошли в сторону
виселицы.
И халиф поднял глаза и увидел, что повешен не Алаад-дин
Абу-ш-Шамат, верный, надёжный.
«О везирь, это не Ала-ад-дин», – сказал он; и везирь
спросил: «Как ты узнал, что это не он?» А халиф ответил: «Ала-ад-дин был
короткий, а этот длинный». – «Повешенный удлиняется», – отвечал
везирь; и халиф сказал: «Ала-ад-дин был белый, а у этого лицо чёрное». –
«Разве не знаешь ты, о повелитель правоверных, что смерти присуща чернота?» –
молвил везирь; и халиф приказал спустить повешенного с виселицы, и когда его
спустили, оказалось, что у него на обеих пятках написаны имена двух старцев[288]. «О везирь, – сказал
халиф, – Ала-ад-дин был суннит, а этот рафидит». И везирь воскликнул:
«Слава Аллаху, знающему сокровенное! Мы не знаем, Ала-ад-дин ли это, или кто
другой». И халиф приказал зарыть повешенного, и его зарыли, и Ала-ад-дин стал
забытым и забвенным. И вот то, что было с ним.
Что же касается Хабазлама Баззазы, сына вали, то его любовь
и страсть продлились, и он умер, и его закопали и схоронили в земле. А что до
невольницы Ясмин – то её беременность пришла к концу, и её схватили потуги, и
она родила дитя мужского пола, подобное месяцу.
«Как ты его назовёшь?» – спросили её невольницы. И она
отвечала: «Будь с его отцом все благополучно, он бы дал ему имя, а я назову его
Асланом!»[289] И потом она вскармливала
его молоком два года подряд и отлучила его от груди, и мальчик стал ползать и
ходить. И случилось так, что в один из дней его мать занялась работой на кухне,
и мальчик пошёл и увидел лестницу в комнату и поднялся по ней.
А эмир Халид сидел там, и он взял мальчика, и посадил его на
колени, и прославил своего владыку за то, что он сотворил и создал в его
образе, и он всмотрелся мальчику в лицо и увидел, что он больше всех тварей
похож на Ала-ад-дина Абу-ш-Шамата.
А потом мать мальчика, Ясмин, стала искать его, и она
поднялась в комнату и увидела, что эмир Халид сидит там, а ребёнок играет у
него на коленях (а Аллах закинул любовь к мальчику в сердце эмира). И мальчик
увидел свою мать и бросился к ней, но эмир Халид удержал его на коленях и
сказал Ясмин: «Подойди, девушка!» И когда она подошла, спросил её: «Этот
мальчик чей сын?» И она ответила: «Это мой сын, плод моего сердца». – «А
кто его отец?» – спросил вали. «Его отец – Ала-ад-дин Абу-ш-Шамат, а теперь он
стал твоим сыном», – ответила Ясмин. «Ала-ад-дин был обманщик», –
сказал вали; и Ясмин воскликнула: «Да сохранит его Аллах от обмана! Невозможно
и не бывать тому, чтобы верный был обманщиком». – «Когда этот ребёнок станет
взрослым и вырастет и спросит тебя: „Кто мой отец?“ – скажи ему: „Ты сын эмира
Халида, вали, начальника стражи“, – молвил эмир; и Ясмин ответила: „Слушаю
и повинуюсь!“
А потом эмир Халид, вали, справил обрезание мальчика, и стал
его воспитывать, и хорошо воспитал его. И он привёл ему учителя чистописца, и
тот научил его чистописанию и чтению, и мальчик прочитал Коран в первый и
второй раз и прочитал его полностью; и он называл эмира Халида: «батюшка».
И вали начал устраивать ристалища и собирал всадников и
выезжал, чтобы учить мальчика способам боя, и показывал ему, в какие места бить
копьём и мечом, пока Аслан не изучил до конца искусства ездить верхом и не
обучился доблести, и не достиг возраста четырнадцати лет, и не дошёл до степени
эмира.
И случилось, что Аслан встретился в какой-то день с Ахмедом
Камакимом-вором, и они стали друзьями, и мальчик проводил его в кабак; и вдруг
Ахмед Камакимвор вынул светильник с драгоценностями, который он взял из вещей
халифа, и, поставив его перед собой, стал пить чашу при свете его, и напился.
«О начальник, дай мне Этот светильник», – сказал ему Аслан. «Я не могу
тебе его дать», – ответил Ахмед. И Аслан спросил: «Почему?» И Ахмед
молвил: «Из-за него пропадали души». – «Чья душа из-за него пропала?» – спросил
Аслан; и Ахмед сказал: «Был тут один, он приехал к нам сюда и сделался главой
шестидесяти, и звали его Ала-ад-дин Абу-ш-Шамат, и он умер из-за этого
светильника». – «А какова его история и по какой причине он умер?» –
спросил Аслан; и Ахмед сказал: «У тебя был брат, по имени Хабазлам Баззаза, и
он достиг шестнадцати лет и стал годен для женитьбы и потребовал от отца, чтобы
тот купил ему невольницу…»
И Ахмед рассказал Аслану всю историю с начала до конца и
осведомил его о болезни Хабазлама Баззазы и о том, что, по несправедливости,
случилось с Ала-ад-дином. И Аслан сказал про себя: «Может быть, эта девушка
Ясмин – моя мать; а отец мой не кто иной, как Ала-аддин Абу-ш-Шамат?»
И мальчик Аслан ушёл от Ахмеда печальный и встретил
начальника Ахмеда-ад-Данафа; и, увидав его, Ахмедад-Данаф воскликнул: «Слава
тому, на кого нет похожего». – «О старший, чему ты удивляешься?» – спросил
его Хасан Шуман; и Ахмед-ад-Данаф ответил: «Наружности этого мальчика Аслана.
Он больше всех тварей похож на Ала-ад-дина Абу-ш-Шамата».
И Ахмед-ад-Данаф позвал: «Эй, Аслан!» И когда тот отозвался,
спросил его: «Как зовут твою мать?» – «Её зовут невольница Ясмин», –
отвечал мальчик. И Ахмедад-Данаф воскликнул: «О Аслан, успокой твою душу и
прохлади глаза! Никто тебе не отец, кроме Ала-ад-дина Абу-ш-Шамата. Но пойди к
твоей матери и спроси у неё про твоего отца». – «Слушаю и повинуюсь!»
ответил Аслан и пошёл к своей матери и спросил её; и она
сказала: «Твой отец – эмир Халид»; а юноша воскликнул: «Никто мне не отец,
кроме Ала-ад-дина Абу-ш-Шамата!»
И мать Аслана заплакала и спросила: «Кто тебе рассказал об
этом, дитя моё?» И Аслан отвечал: «Мне рассказал об этом начальник
Ахмед-ад-Данаф». И тогда Ясмин поведала ему обо всем, что случилось, и сказала:
«О дитя моё, истинное стало явным, и скрылось ложное.
Знай, что твой отец – Ала-ад-дин Абу-ш-Шамат, но только
воспитал тебя один лишь эмир Халид, и он сделал тебя своим сыном. О дитя моё,
если ты встретишься с начальником Ахмедом-ад-Данафом, скажи ему: «О старший,
прошу тебя ради Аллаха, отомсти вместо меня убийце моего отца Ала-ад-дина
Абу-ш-Шамата». И Аслан вышел от своей матери и пошёл…»
И Шахразаду застигло утро, и она прекратила дозволенные
речи.
Двести шестьдесят седьмая ночь
Когда же настала двести шестьдесят седьмая ночь, она
сказала: «Дошло до меня, о счастливый царь, что Аслан вышел от своей матери и
пошёл и, войдя к начальнику Ахмедуад-Данафу, поцеловал ему руку.
«Что тебе, о Аслан?» – спросил Ахмед-ад-Данаф. И Аслан
сказал: «Я узнал и убедился, что мой отец – Ала-аддин Абу-ш-Шамат, и хочу,
чтобы ты отомстил вместо меня его убийце». – «Кто убил твоего отца?» –
спросил Ахмед-ад-Данаф. «Ахмед Камаким-вор», – ответил Аслан. «А кто тебя
осведомил об этом деле?» – спросил Ахмед; и Аслан сказал: «Я увидел у него
светильник с драгоценностями, который пропал в числе вещей халифа, и сказал
ему: „Дай мне этот светильник“; но он не согласился и сказал: „Из-за этого
светильника пропадали души“, – и рассказал, что это он спустился и украл
вещи и положил их в доме моего отца».
«Когда ты увидишь, что эмир Халид, вали, надевает одежду
войны, – сказал Ахмед-ад-Данаф, скажи ему: „Одень меня так же“. И когда ты
выедешь вместе с ним и покажешь перед повелителем правоверных какой-нибудь
диковинный способ боя и халиф скажет тебе: „Пожелай от меня чего-нибудь, о Аслан“, –
а ты скажи ему: „Я желаю, чтобы ты отомстил вместо меня за моего отца его
убийце“. И халиф тебе скажет: „Твой отец жив – это Эмир Халид“; а ты скажи:
„Мой отец Ала-ад-дин Абу-шШамат, а эмиру Халиду я обязан только воспитанием“.
Расскажи ему все, что произошло у тебя с Ахмедом Камакимом-вором, и скажи: „О
повелитель правоверных, вели его обыскать“, – и я выну светильник у него
из-за пазухи».
И Аслан сказал Ахмеду-ад-Данафу: «Слушаю и повинуюсь!» – и
затем он ушёл и увидел, что эмир Халид собирается выехать в диван халифа.
«Я хочу, чтобы ты одел меня в одежды войны, такие же, как у
тебя, и взял меня с собой в диван халифа», – сказал он. И эмир одел его и
взял с собою в диван.
И халиф выехал с войсками за город и расставил шатры и
палатки, и ряды выстроились, и выехали всадники с шаром и молотком, и когда
какой-нибудь всадник ударял по шару молотком, другой всадник возвращал его к
нему.
А среди войска был один лазутчик, которого подговорили убить
халифа, и он взял шар и ударил по нему молотком, направив его в лицо халифу. И
вдруг Аслан поймал шар вместо халифа и ударил им того, кто его бросил, и шар
попал ему между плеч, и он упал на землю. И халиф воскликнул: «Да благословит
тебя Аллах, о Аслан!»
А потом они сошли со спин коней и сели на седалища, и халиф
велел привести того, кто ударил по шару, и, когда тот человек предстал пред
ним, спросил его: «Кто подговорил тебя на это дело? Ты враг или любящий?» – «Я
враг и задумал убить тебя», – ответил лазутчик; и халиф сказал: «Какова
причина этого? Разве ты не мусульманин?» – «Нет, я рафидит», – ответил
лазутчик. И халиф велел его убить и сказал Аслану: «Пожелай от меня
чего-нибудь!» А Аслан сказал: «Я желаю, чтобы ты отомстил вместо меня убийце
моего отца». – «Твой отец жив, и он стоит на ногах», – сказал халиф;
и Аслан спросил: «Кто мой отец?» – «Эмир Халид, вали», – ответил халиф; и
Аслан воскликнул: «О повелитель правоверных, он мой отец только по воспитанию,
и никто мне не родитель, кроме Ала-ад-дина Абу-ш-Шамата». – «Твой отец был
обманщик», – сказал халиф. «О повелитель правоверных, – ответил
Аслан, – не бывать тому, чтобы верный стал обманщиком. И в чем он тебя
обманул?» – «Он украл мою одежду и то, что при ней было», – сказал халиф;
и Аслан спросил: «О господин, когда ты лишился своей одежды и она вернулась к
тебе, видел ли ты, что и светильник тоже к тебе возвратился?» – «Мы его не
нашли», – ответил халиф; и Аслан молвил: «Я увидал светильник у Ахмеда
Камакима-вора и попросил его у него, но он его мне не дал и сказал: „Из-за него
пропадали души“. И он поведал мне про болезнь Хабазлама Баззазы, сына эмира
Халида, и про его любовь к невольнице Ясмин, и про то, как он сам был
освобождён от цепей, и рассказал мне, что это он украл одежду и светильник. И
ты, о повелитель правоверных, отомсти вместо меня убийце моего отца». –
«Схватите Ахмеда Камакима!» – сказал халиф. И когда его схватили, халиф
спросил: «Где начальник Ахмед-ад-Данаф?» И тот явился, и халиф сказал ему:
«Обыщи Камакима!» И Ахмед-ад-Данаф положил руку ему за пазуху и вынул оттуда
светильник с драгоценностями.
И халиф воскликнул: «Подойди, обманщик! Откуда у тебя этот
светильник?» – «Я купил его, о повелитель правоверных», – ответил Ахмед
Камаким; и халиф спросил «Где ты его купил и кто мог обладать подобным ему,
чтобы продать его тебе?»
И Ахмеда Камакима побили, и он сознался, что это он украл
одежду и светильник, и халиф воскликнул: «Зачем ты сделал такое дело, обманщик,
и погубил Ала-ад-дина Абу-ш-Шамата, когда он верный, надёжный?»
Потом халиф приказал схватить Ахмеда Камакима и вали, и тот
сказал: «О повелитель правоверных, я обижен! Ты приказал мне его повесить, и я
не имел сведений об этой проделке. Это устроили старуха – мать Ахмеда Камакима
– и моя жена, и я ничего не знал. Я под твоей защитой, о Аслан».
И Аслан заступился за него перед халифом; и потом повелитель
правоверных спросил: «Что сделал Аллах с матерью этого мальчика?» И вали
ответил: «Она у меня». – «Я приказываю тебе, – сказал халиф, –
чтобы ты велел твоей жене одеть его мать в её прежнюю одежду и украшения и
вернуть ей положение госпожи. Сними печати с дома Ала-ад-дина и отдай сыну
деньги и имущество его отца». И вали отвечал: «Слушаю и повинуюсь!» – и вышел и
отдал своей жене приказание, и та одела Ясмин в её прежнюю одежду, и вали снял
печати с дома Ала-ад-дина и передал Аслану ключи.
И потом халиф сказал: «Пожелай от меня чего-нибудь, о
Аслан». И Аслан воскликнул: «Я желаю, чтобы ты соединил меня с отцом».
И халиф заплакал и сказал: «Самое вероятное, что твой отец и
есть тот, кого повесили, и он умер. Но клянусь жизнью моих дедов, всякому, кто
порадует меня вестью о том, что Ала-ад-дин ещё в оковах жизни, я дам все, чего
он попросит».
И Ахмед-ад-Данаф выступил вперёд и поцеловал землю перед
халифом и сказал: «Дай мне безопасность, о повелитель правоверных!» – «Ты в
безопасности», – молвил халиф. И Ахмед-ад-Данаф сказал: «Я обрадую тебя
вестью о том, что Ала-ад-дин Абу-ш-Шамат здоров и пребывает а оковах
жизни». – «Что это ты говоришь!» – воскликнул халиф. «Клянусь жизнью твоей
головы, – отвечал Ахмед-ад-Данаф, – мои слова истина! Я выкупил его
другим человеком, который заслуживал смерти, и доставил в аль-Искандарию и
открыл ему лавку старьёвщика». – «Поручаю тебе привести его», –
сказал халиф…»
И Шахразаду застигло утро, и она прекратила дозволенные
речи.
Двести шестьдесят восьмая ночь
Когда же настала двести шестьдесят восьмая ночь, она
сказала: «Дошло до меня, о счастливый царь, что халиф сказал Ахмеду-ад-Данафу:
„Поручаю тебе привести его“; и Ахмед ответил: „Слушаю и повинуюсь!“ И халиф
велел дать ему десять тысяч динаров, и Ахмед-ад-Данаф поехал, направляясь в
аль-Искандарию.
Вот что было с Асланом. Что же касается его отца,
Ала-ад-дина Абу-ш-Шамата, то он продавал все, что было у него в лавке, и там
осталось лишь немногое, и между прочим один мешок. И Ала-ад-дин развязал мешок,
и оттуда выпал камень, наполняющий горсть, на Золотой цепочке, и он был о пяти
сторонах, на которых были написаны имена и талисманы, похожие на ползающих
муравьёв.
И Ала-ад-дин потёр эти пять сторон, но никто ему не ответил,
и он сказал про себя: «Может быть, этот камень простой оникс?» – и он повесил
камень в лавке.
И вдруг прошёл по дороге консул[290] и поднял глаза и увидел, что висит этот
камень. И он сел у лавки Ала-аддина и спросил его: «О господин, этот камень
продаётся?» – «Все, что у меня есть, продаётся», – ответил Ала-ад-дин; и
консул спросил: «Продашь ты мне его за восемьдесят тысяч динаров?» – «Аллах
поможет!» – ответил Ала-ад-дин; и консул сказал: «Продашь ли ты его за сто
тысяч динаров?» – «Я продам его тебе за сто тысяч динаров, плати
деньги», – сказал Ала-ад-дин; и консул сказал: «Я не могу принести деньги
с собой, когда в аль-Искандарии воры и стражники. Ты пойдёшь со мной на
корабль, и я дам тебе деньги, а также кипу ангорской шерсти, кипу атласа, кипу
бархата и кипу сукна».
И Ала-ад-дин поднялся и запер лавку, вручив сначала консулу
камень, и отдал ключи своему соседу и сказал: «Возьми эти ключи к себе на
сохранение, а я пойду на корабль с этим консулом и принесу деньги за мой
камень. А если я задержусь и к тебе приедет начальник Ахмед-адДанаф, который
поселил меня в этом месте, отдай ему ключи и расскажи ему об этом». И затем
Ала-ад-дин отправился с консулом на корабль, и консул, приведя его на корабль,
поставил скамеечку, посадил на неё Ала-аддина и сказал: «Подайте деньги!» – и
отдал ему плату и те пять кип, которые он ему обещал. «О господин, –
сказал он ему, – прошу тебя, утешь меня, съев кусочек или выпив глоток
воды». И Ала-ад-дин сказал: «Если у тебя есть вода, дай мне напиться». И консул
велел принести питьё, и вдруг в нем оказался дурман, и, выпив его, Ала-ад-дин
опрокинулся на спину.
И тогда убрали сходни и опустили багры и распустили паруса,
и ветер был им благоприятен, пока они не оказались посреди моря. И капитан
велел поднять Ала-ад-дина из трюма, и его подняли и дали ему понюхать средство
против дурмана, и Ала-ад-дин открыл глаза и спросил: «Где я?» – «Ты со мною,
связанный и под моей охраной, и если бы ты тогда ещё раз сказал: „Аллах
поможет!“, я бы, наверное, прибавил тебе», – ответил капитан.
И Ала-ад-дин спросил его: «Какое твоё ремесло?»
И капитан ответил: «Я капитан и хочу отвезти тебя к
возлюбленной моего сердца».
И пока они разговаривали, вдруг появился корабль, где было
сорок купцов из мусульман, и капитан направил к ним свой корабль и зацепил их
корабль крючками и сошёл на него со своими людьми, и они ограбили их корабль и
забрали его и отправились с ним в город Геную.
И капитан, с которым был Ала-ад-дин, направился к воротам
одного дворца, выходившим на море, и вдруг оттуда вышла девушка, закрывшаяся
покрывалом, и спросила его: «Привёз ли ты камень и его владельца?» – «Я привёз
их», – отвечал капитан. И девушка сказала: «Подай сюда камень». И капитан
отдал ей камень, а потом он направился в гавань и выстрелил из пушек
благополучия, и царь города узнал о прибытии этого капитана.
И он вышел к нему навстречу и спросил его: «Какова была твоя
поездка?» – «Было очень хорошо, – отвечал капитан, – и мне достался
корабль, где был сорок один купец из мусульман». – «Выведи их», –
сказал царь; и капитан вывел купцов в цепях, и среди них был Ала-аддин. И царь
с капитаном сели на коней и погнали купцов впереди себя, а прибыв в диван, они
сели, и первого из купцов подвели к ним, и царь спросил: «Откуда ты, о
мусульманин?» – «Из аль-Искандарии», – отвечал купец; и царь сказал: «Эй,
палач, убей его!» И палач ударил его мечом и отрубил ему голову, и второму и
третьему также, до конца всем сорока.
А Ала-ад-дин был последним из них, и он испил печаль по ним
и сказал про себя: «Да помилует тебя Аллах, Алаад-дин, кончилась твоя
жизнь». – «А ты из какой страны?» – спросил его царь, и Ала-ад-дин
ответил: «Из аль-Искандарии»; и тогда царь сказал: «Эй, палач, отруби ему
голову»; и палач поднял руку с мечом и хотел отрубить голову Ала-ад-дину, и
вдруг какая-то старуха, величественная видом, выступила пред лицо царя, и царь
поднялся из уважения к ней, а она сказала: «О царь, не говорила ли я тебе,
чтобы, когда капитан привезёт пленников, ты вспомнил о монастыре и подарил туда
пленника или двух, чтобы прислуживать в церкви?» – «О матушка, – отвечал
царь, – если бы ты пришла на минуту раньше! Но возьми этого пленника,
который остался».
И старуха обернулась к Ала-ад-дину и сказала ему: «Будешь ли
ты прислуживать в церкви, или я позволю царю убить тебя?» – «Я буду
прислуживать в церкви», – отвечал Ала-ад-дин, и старуха взяла его и, выйдя
с ним из дивана, направилась в церковь.
«Какую я буду делать работу?» – спросил Ала-ад-дин; и
старуха ответила: «Утром ты встанешь и возьмёшь пять мулов и отправишься с ними
в рощу, и нарубишь сухого дерева и наломаешь его и привезёшь на монастырскую
кухню, а после этого ты свернёшь ковры и подметёшь и вытрешь плиты и мраморный
пол и положишь ковры обратно, как было. Ты возьмёшь полардебба[291] пшеницы и просеешь, и замесишь, и сделаешь
из неё сухари для монастыря, и возьмёшь меру чечевицы и просеешь её, и смелешь
на ручной мельнице, и сваришь, а потом наполнишь четыре водоёма и будешь
поливать из бочек, и наполнишь триста шестьдесят шесть мисок и размочишь в них
сухари и польёшь их чечевицей, и снесёшь каждому монаху или патриарху его чашку…»
– «Верни меня к царю, и пусть он меня убьёт, – это мне легче, чем такая
работа!» – воскликнул Ала-ад-дин; и старуха сказала: «Если ты будешь работать и
исполнишь работу, возложенную на тебя, ты избавишься от смерти, а если не
исполнишь, я дам царю убить тебя». И Ала-ад-дин остался сидеть, обременённый
заботой.
А в церкви было десять увечных слепцов, и один из них сказал
Ала-ад-дину: «Принеси мне горшок»; и Алаад-дин принёс его горшок, и слепец
наделал в него и сказал: «Выброси кал!» И Ала-ад-дин выбросил его, и старец
воскликнул: «Да благословит тебя мессия, о служитель церкви!»
И вдруг старуха пришла и спросила: «Почему ты не исполнил
работу в церкви?» И Ала-ад-дин сказал: «У меня сколько рук, чтобы я мог
исполнить такую работу?» – «О безумный, – сказала старуха, – я
привела тебя только для того, чтобы ты работал. О сын мой, – молвила она
потом, – возьми эту палку (а палка была из меди, и на конце её был крест)
и выйди на площадь, и когда встретишь вали города, скажи ему: „Я призываю тебя послужить
церкви ради господина нашего мессии“, – и он не будет прекословить. И
пусть возьмёт пшеницу и просеет и провеет и замесит и испечёт из неё сухари, а
всякого, кто будет тебе прекословить, ты бей и не бойся никого». И Ала-ад-дин
ответил: «Слушаю и повинуюсь!» – и сделал так, как она сказала, и так он
принуждал работать даром и великих и малых семнадцать лет.
И однажды он сидел в церкви, и вдруг та старуха вошла к нему
и сказала: «Уходи вон из монастыря». – «Куда я пойду?» – спросил
Ала-ад-дин; и старуха сказала: «Переночуй эту ночь в кабаке или у кого-нибудь
из твоих друзей». И Ала-ад-дин спросил её: «Почему ты гонишь меня из церкви?» И
старуха ответила: «Хусн Мариам, дочь царя Юханны, царя этого города, хочет
посетить церковь, и не подобает, чтобы кто-нибудь сидел на её пути».
И Ала-ад-дин послушался старуху и поднялся и показал ей,
будто он уходит из церкви, а сам говорил про себя: «О, если бы увидеть, такая
ли дочь царя, как наши женщины, или лучше их! Я не уйду, пока не посмотрю на
неё». И он спрятался в одной комнате, где было окно, выходившее в церковь. И
когда он смотрел в окно, вдруг пришла дочь царя, и Ала-ад-дин посмотрел на неё
взглядом, оставившим после себя тысячу вздохов, так как он увидел, что она
подобна луне, выглядывающей из-за облаков. И с царевной была женщина…»
И Шахразаду застигло утро, и она прекратила дозволенные
речи.
Двести шестьдесят девятая ночь
Когда же настала двести шестьдесят девятая ночь, она
сказала: «Дошло до меня, о счастливый царь, что Ала-ад-дин посмотрел на дочь
царя и увидел с ней женщину.
И царевна говорила этой женщине: «Ты развеселила нас, о
Зубейда».
И Ала-ад-дин внимательно посмотрел на женщину и увидел, что
это его жена, Зубейда-лютнистка, которая умерла. А потом дочь царя сказала
Зубейде: «Сыграй нам на лютне»; и Зубейда ответила: «Я не сыграю тебе, пока ты
не осуществишь моё желание и не исполнишь то, что ты мне обещала».
«А что я тебе обещала?» – спросила царевна; и Зубейда
ответила: «Ты обещала мне свести меня с моим мужем, Ала-ад-дином Абу-ш-Шаматом,
верным, надёжным». – «О Зубейда, – сказала царевна, – успокой
свою душу и прохлади глаза и сыграй нам ради сладости единения с мужем твоим
Ала-ад-дином». И Зубейда спросила: «А где он?» И царевна молвила: «Он в этой
комнате и слушает наши речи».
И Зубейда сыграла на лютне музыку, от которой запляшет
каменная скала; и когда Ала-ад-дин услышал это. горести взволновались в нем, и
он вышел из комнаты, ринулся к женщинам и схватил свою жену Зубейду-лютнистку в
объятия.
И Зубейда узнала его, и они обнялись и упали на землю в
обмороке, и царевна Хусн Мариам подошла к ним и брызнула на них розовой водой и
привела их в чувство и воскликнула: «Аллах соединил вас!» – «Благодаря твоей
любви, госпожа», – ответил Ала-ад-дин, и затем он обратился к своей жене
Зубейде-лютнистке, и сказал ей: «Ты же умерла, о Зубейда, и мы зарыли тебя в
могилу! Как же ты ожила и пришла сюда?» – «О господин, – отвечала
Зубейда, – я не умерла, меня похитил злой дух из джиннов и прилетел со
мной в это место, а та, которую вы похоронили, – джинния, принявшая мой образ
и прикинувшаяся мёртвой; и после того, как вы её похоронили, она прошла сквозь
могилу и вышла из неё и улетела служить своей госпоже Хусн Мариам, дочери царя.
А что до меня, то меня оглушило, и, открыв глаза, я увидела
себя возле Хусн Мариам, дочери царя (а она – вот эта женщина), и спросила её:
«Зачем ты принесла меня сюда?» И она сказала: «Мне обещано, что я выйду замуж
за твоего мужа, Ала-ад-дина Абу-ш-Шамата. Примешь ли ты меня, о Зубейда, чтобы
я была ему другой женой и чтобы мне была ночь и тебе была ночь?» И я отвечала
ей: «Слушаю и повинуюсь, госпожа моя, но где же мой муж?» А она сказала: «У
него на лбу написано то, что предопределил ему Аллах, и когда он исполнит то,
что написано у него на лбу, он непременно прибудет в это место, а мы станем развлекаться
в разлуке с ним песнями и игрой на инструментах, пока Аллах не соединит нас с
ним». И я провела у неё все это время, пока Аллах не соединил меня с тобою в
этой церкви».
И после этого Хусн Мариам обратилась к Ала-ад-дину и
сказала: «О господин мой Ала-ад-дин, примешь ли ты меня, чтобы я была тебе
женою, а ты мне мужем?» – «О госпожа, я мусульманин, а ты христианка, как же я
на тебе женюсь?» – ответил Ала-ад-дин. И Хусн Мариам воскликнула: «Не бывать,
ради Аллаха, чтобы я была неверной! Нет, я мусульманка и уже восемнадцать лет
крепко держусь веры ислама, и я не причастна ни к какой вере, противной вере
ислама». – «О госпожа, – сказал Алаад-дин, – я хочу отправиться
в свои земли». – «О Ала-аддин, – отвечала царевна, – я видела,
что у тебя на лбу написаны дела, которые ты должен исполнить, и ты достигнешь
своей цели. Аллах да поздравит тебя, о Ала-ад-дин: у тебя появился сын по имени
Аслан, который теперь сидит на твоём месте возле халифа, и достиг он возраста
восемнадцати лет. Знай, что явной стала правда и сокрылось ложное, и господь
наш поднял покровы с того, кто украл вещи халифа, – это Ахмед Камаким –
вор и обманщик, и он теперь заточён в тюрьме и закован в цепи. Узнай, что это я
послала тебе камень и положила его для тебя в мешок, который был в лавке, и это
я прислала капитана, который привёз тебя и камень. Знай, что этот капитан любит
меня и привязан ко мне и требовал от меня близости, но я не соглашалась дать
ему овладеть собою и сказала ему: „Я отдамся тебе во власть лишь тогда, когда
ты привезёшь мне камень и его обладателя“. И я дала ему сто мешков денег и
послала его в обличье купца, хотя он капитан, а когда тебя подвели для
убийства, после того как убили сорок пленников, с которыми был и ты, я послала
к тебе ту старуху». – «Да воздаст тебе Аллах нас всяким благом, и
прекрасно то, что ты сделала!» – воскликнул Ала-ад-дин.
А после этого Хусн Мариам снова приняла ислам с помощью
Ала-ад-дина; и, узнав истинность её слов, Ала-аддин сказал ей: «Расскажи мне,
каково достоинство этого камня и откуда он». А Хусн Мариам сказала: «Этот
камень – из сокровища, охраняемого талисманом, и в нем пять достоинств, которые
будут нам полезны при нужде в своё время. Моя госпожа и бабка, мать моего отца,
была колдуньей, разгадывавшей загадки и похищавшей то, что хранится в кладах, и
к ней попал этот камень из одного клада. И когда я выросла и достигла возраста
четырнадцати лет, я прочитала евангелие и другие книги и увидела имя Мухаммеда
– да благословит его Аллах и да приветствует! – в четырех книгах: в торе,
в Евангелии, в псалмах и в аль-фуркане[292],
и уверовала в Мухаммеда и стала мусульманкой, и убедилась разумом, что не
должно поклоняться, поистине, никому, кроме Аллаха великого, и что господу
людей не угодна никакая вера, кроме ислама. А моя бабушка, когда заболела,
подарила мне этот камень и осведомила меня о том, какие в нем пять достоинств.
И прежде чем моей госпоже и бабке умереть, мой отец сказал ей: «Погадай мне на
доске с песком и посмотри, каков будет исход моего дела и что со мною
случится». И она сказала ему:
«Далёкий[293] умрёт,
убитый пленным, который прибудет из аль-Искандарии». И моя отец поклялся, что
убьёт всякого пленника, который прибудет оттуда, и осведомил об этом капитана и
сказал ему: «Непременно налетай на корабли мусульман и нападай на них, и всякого,
кого ты увидишь из жителей аль-Искандарии, убивай или приводи ко мне». И
капитан последовал приказанию царя и убил столько людей, сколько волос у него
на голове.
И моя бабка умерла, и я выросла и погадала для себя на песке
и задумала про себя кое-что и сказала: «Увидать бы, кто на мне женится!» И мне
вышло, что на мне не женится никто, кроме одного человека по имени Ала-аддин
Абу-ш-Шамат, верный, надёжный. И я подивилась этому и ждала, пока не пришла
пора и я не встретилась с тобою».
Потом Ала-ад-дин женился на царевне и сказал ей: «Я хочу
отправиться в свои земли»; и она ответила: «Если так, вставай, пойдём со мной!»
– и она взяла Ала-ад-дина и спрятала его в одной из комнат дворца. А затем она
вошла к своему отцу, и тот сказал ей: «О дочь моя, я сегодня очень удручён.
Садись же, мы с тобой напьёмся!»
И она села, а царь велел подать вина, и царевна стала
наливать, и поила его, пока он не исчез из мира, а потом она положила ему в
кубок дурмана, и царь выпил кубок и опрокинулся навзничь.
И тогда царевна пришла к Ала-ад-дину, вывела его из той
комнаты и сказала: «Вставай, пойдём, твой противник лежит навзничь, делай же с
ним, что захочешь, я напоила его и одурманила».
И Ала-ад-дин вошёл и, увидев, что царь одурманен, крепко
скрутил ему руки и заковал его, а потом он дал ему средство против дурмана, и
царь очнулся…»
И Шахразаду застигло утро, и она прекратила дозволенные
речи.
Ночь, дополняющая до двухсот семидесяти
Когда же настала ночь, дополняющая до двухсот семидесяти,
она сказала: «Дошло до меня, о счастливый царь, что Ала-ад-дин дал царю, отцу
Хусн Мариам, средство против дурмана, и тот очнулся и увидал Ала-аддина и свою
дочь сидящими верхом у него на груди. „О дочь моя, почему ты делаешь со мною
такие дела?“ – сказал царь своей дочери; и она ответила: „Если я твоя дочь, то
прими ислам. Я сделалась мусульманкой, и мне стала ясна истина, которой я
придерживаюсь, и ложь, которой я сторонюсь. Я предала свой лик Аллаху, господу
миров, и я не причастив ни к какой вере, противной вере ислама, ни в здешней жизни,
ни в будущей. И если ты примешь ислам – в охоту и в удовольствие, а если нет –
быть убитым тебе подобает более, чем жить“.
И Ала-ад-дин тоже стал убеждать царя, но тот отказался и был
непокорен, и тогда Ала-ад-дин вынул кинжал и перерезал царю гордо от одной вены
до другой вены. И он написал бумажку с изложением того, что было, и положил её
царю на лоб, а потом он взял то, что легко снести и дорого ценится, и они пошли
из замка и отправились в церковь.
И царевна принесла камень и положила руку на ту сторону, где
было вырезано ложе, и потёрла её, и вдруг ложе встало перед нею.
И царевна с Ала-ад-дином и с его женой Зубейдойлютнисткой
села на это ложе и воскликнула: «Заклинаю тебя теми именами, талисманами и
волшебными знаками, что написаны на этом камне, поднимись с нами, о ложе!»
И ложе поднялось и полетело с ними до долины, где не было
растительности; и тогда царевна подняла к небу остальные четыре стороны камня и
повернула вниз ту сторону, где было написано «ложе», и ложе опустилось с ними
на землю вниз.
И царевна повернула камень той стороной, где было нарисовано
изображение шатра, и ударила по ней и сказала: «Пусть встанет в этой долине
шатёр!» И шатёр встал перед ними, и они уселись в нем.
А это была долина пустынная, без всякой растительности и
воды. И царевна обратила камень четырьмя сторонами к небу и воскликнула: «Во
имя Аллаха, пусть вырастут здесь деревья и потечёт возле них море!» И деревья
тотчас же выросли и возле них потекло шумное море, где бьются волны. И путники
омылись в нем и помолились и напились, а затем царевна обратила к небу три
стороны камня, кроме той, на которой было изображение скатерти с кушаньями, и
сказала: «Ради имени Аллаха, пусть накроется скатерть!» И вдруг появилась
накрытая скатерть, где были всякие роскошные кушанья, и путники стали есть и
пить и насладились и возликовали.
Вот что было с ними. Что ж касается сына царя, то он пришёл
разбудить отца и увидел, что тот убит. Он нашёл бумажку, которую написал
Ала-ад-дин, и прочитал её и понял, что там было; а затем он стал искать свою
сестру и не нашёл её. И он отправился к старухе в церковь и нашёл её и спросил
про сестру; и старуха сказала: «Со вчерашнего дня я её не видела».
И тогда царевич вернулся к войскам и воскликнул: «На коней,
о владельцы их!» – и рассказал воинам о том, что случилось; и они сели на коней
и ехали, пока не приблизились к тому шатру. И Хусн Мариам поднялась и увидела
пыль, которая заслонила края земли, и после того, как пыль поднялась, улетела и
рассеялась, вдруг появился брат царевны со своими воинами, и они кричали: «Куда
ты направляешься, когда мы сзади вас?»
И женщина спросила Ала-ад-дина: «Насколько крепки твои ноги
в боях?» И Ала-ад-дин ответил: «Как колышек в отрубях: я не умею биться и
сражаться и не знаю мечей и копий».
И тогда Хусн Мариам вынула камень и потёрла ту сторону, на
которой был изображён конь и всадник, – и вдруг из пустыни появился
всадник, и он до тех пор дрался с воинами и бил их мечом, пока не разбил их и
не прогнал.
И после этого та женщина сказала Ала-ад-дину: «Поедешь ты в
Каир или в аль-Искандарию?» Ала-ад-дин отвечал: «В аль-Искандарию». И тогда они
сели на ложе, и женщина произнесла заклинания, и ложе прилетело с ними и в
мгновение ока опустилось в аль-Искандарии.
И Ала-ад-дин привёл женщин в пещеру и пошёл в альИскандарию,
и принёс им одежду и надел её на них, и отправился в ту лавку с комнатой; а
потом он вышел, чтобы принести им обед, и вдруг видит: начальник Ахмедад-Данаф
едет из Багдада.
И Ала-ад-дин увидал его на дороге и встретил его объятиями и
приветствовал его и сказал: «Добро пожаловать!» А потом начальник
Ахмед-ад-Данаф обрадовал его вестью о его сыне Аслане и рассказал ему, что тот
достиг возраста двадцати лет.
И Ала-ад-дин поведал ему обо всем, что с ним случилось, от
начала до конца, и взял его в лавку с комнатой; и Ахмед-ад-Данаф удивился всему
этому до крайних пределов.
И они проспали эту ночь до утра, а утром Ала-ад-дин продал
лавку и приложил плату за неё к тому, что у него было. А затем Ахмед-ад-Дана)
рассказал Ала-ад-дину, что халиф его требует, и Ала-ад-дин сказал: «Я еду в
Каир, чтобы пожелать мира моему отцу и матери и родным». И они все сели на ложе
и отправились в Каирсчастливый.
Они спустились по Жёлтой улице, так как их дом находился в
этом квартале, и постучали в ворота своего дома.
И мать Ала-ад-дина спросила: «Кто у ворот после утраты
любимых?» И Ала-ад-дин ответил: «Я, Ала-ад-дин!» И его родные вышли и заключили
его в объятия, а потом он ввёл в дом свою жену и внёс то, что с ним было, и
после этого вошёл сам вместе с Ахмедом-ад-Данафом.
И они отдыхали три дня, и затем Ала-ад-дин пожелал
отправиться в Багдад, и отец его сказал ему: «Останься, сын мой, у меня!» Но
Ала-ад-дин ответил: «Я не могу быть в разлуке с моим сыном Асланом».
И он взял отца и мать с собою, и они отправились в Багдад. И
Ахмед-ад-Данаф вошёл к халифу и обрадовал его вестью о прибытии Ала-ад-дина и
рассказал ему его историю, и халиф вышел его встречать и взял с собой его сына
Аслана.
И они встретили Ала-ад-дина объятиями, и халиф велел
привести Ахмеда Камакима-вора, и его привели; и когда он предстал перед
халифом, тот сказал: «О Ала-аддин, вот тебе твой противник!» И Ала-ад-дин
вытащил меч и, ударив Ахмеда Камакима, отрубил ему голову.
И халиф устроил Ала-ад-дину великолепную свадьбу, после того
как явились судьи и свидетели и был написан его договор с Хусн Мариам. И
Ала-ад-дин вошёл к ней и увидел, что она жемчужина, ещё посверленная.
А потом халиф сделал его сына Аслана главой шестидесяти и
наградил их всех роскошными одеждами, и жили они блаженнейшей и приятнейшей
жизнью, пока не пришла к ним Разрушительница наслаждений и Разлучительница
собраний».
|


