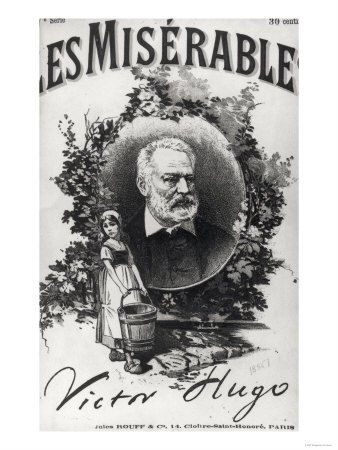
 Увеличить Увеличить |
Глава одиннадцатая.
Оговорка
Тот, кто заключит из вышеизложенного, что монсеньор Бьенвеню
был «епископом-философом» или «священником-патриотом», рискует впасть в большую
ошибку. Его встреча с членом Конвента Ж., которую, быть может, позволительно
сравнить с встречей двух небесных светил, оставила в его душе недоумение,
придавшее еще большую кротость его характеру. И только.
Хотя монсеньор Бьенвеню меньше всего был политическим
деятелем, все же, пожалуй, уместно в нескольких словах рассказать здесь, каково
было его отношение к современным событиям, если предположить, что монсеньор
Бьенвеню когда-либо проявлял к ним какое-то отношение.
Итак, вернемся на несколько лет назад.
Немного времени спустя после возведения Мириэля в
епископский сан император пожаловал ему, так же как и нескольким другим
епископам, титул барона Империи. Как известно, арест папы состоялся в ночь с 5
на 6 июля 1809 года; по этому случаю Мириэль был приглашен Наполеоном на совет
епископов Франции и Италии, созванный в Париже. Синод этот заседал в Соборе
Парижской Богоматери и впервые собрался 15 июня 1811 года под председательством
кардинала Феша. В числе девяноста пяти явившихся туда епископов был и Мириэль.
Однако он присутствовал всего лишь на одном заседании и на нескольких частных
совещаниях. Епископ горной епархии, человек привыкший к непосредственной
близости к природе, к деревенской простоте и к лишениям, он, кажется, высказал
в обществе этих высоких особ такие взгляды, которые охладили температуру
собрания. Очень скоро он вернулся в Динь. На вопросы о причине столь быстрого
возвращения он ответил:
– Я там мешал. Вместе со мной туда проник свежий ветер.
Я произвел впечатление распахнутой настежь двери.
В другой раз он сказал:
– Что же тут удивительного? Все эти
высокопреосвященства – князья церкви, а я – всего лишь бедный сельский епископ.
Он пришелся не ко двору. Он наговорил там немало странных
вещей, а как-то вечером, когда он находился у одного из самых именитых своих
собратьев, у него вырвались, между прочим, такие слова:
– Какие красивые стенные часы! Какие красивые ковры!
Какие красивые ливреи! До чего это утомительно! Нет, я бы не хотел иметь у себя
всю эту бесполезную роскошь. Она бы все время кричала мне в уши: «Есть люди,
которые голодают! Есть люди, которым холодно. Есть бедняки! Есть бедняки!»
Скажем мимоходом, что ненависть к роскоши – ненависть
неразумная. Она влечет за собой ненависть к искусству. Однако у служителей
церкви, если не говорить о торжественных службах и обрядах, роскошь является
пороком. Она как бы изобличает привычки, говорящие о недостатке истинного
милосердия. Богатый священник-это нелепо, место священника – подле бедняков. Но
можно ли постоянно, днем и ночью, соприкасаться со всякими невзгодами, со
всякими лишениями и нищетой, не приняв на себя какой-то доли всех этих
бедствий, не запачкавшись, если можно так выразиться, этой трудовой пылью?
Можно ли представить себе человека, который, находясь у пылающего костра, не
ощущал бы его жара? Можно ли представить себе постоянно работающего у
раскаленной печи человека, у которого не было бы ни одного опаленного волоса,
ни одного почерневшего ногтя, ни капли пота, ни пятнышка сажи на лице? Первое
доказательство милосердия священника, а епископа в особенности, – это его
бедность.
По-видимому, именно так думал и епископ Диньский.
Впрочем, не следует предполагать, чтобы по отношению к
некоторым щекотливым пунктам он разделял так называемые «идеи века». Он редко
вмешивался в богословские распри своего времени и не высказывался по вопросам,
роняющим престиж церкви и государства; однако, если бы оказать на него
достаточно сильное давление, он, по всей вероятности, скорее оказался бы
ультрамонтаном, нежели галликанцем. Так как мы пишем портрет с натуры и не
имеем желания что-либо скрывать, мы вынуждены добавить, что Мириэль выказал
крайнюю холодность к Наполеону в период его заката. Начиная с 1813 года он
одобрял или даже приветствовал все враждебные императору выступления. Он не
пожелал видеть Наполеона, когда тот возвращался с острова Эльбы, и не отдал
распоряжение по епархии о служении в церквах молебнов о здравии императора во
время Ста дней.
Кроме сестры Батистины, у него было два брата: один –
генерал, другой – префект. Он довольно часто писал обоим. Однако он несколько
охладел к первому после того, как, командуя войсками в Провансе и приняв под
свое начало отряд в тысячу двести человек, генерал во время высадки в Канне
преследовал императора так вяло, словно желал дать ему возможность ускользнуть.
Переписка же епископа с другим братом, отставным префектом, достойным и честным
человеком, который уединенно жил в Париже на улице Касет, оставалась более
сердечной.
Итак, монсеньора Бьенвеню тоже коснулся дух политических
разногласий, у него тоже были свои горькие минуты, свои мрачные мысли. Тень
страстей, волновавших эпоху, задела и этот возвышенный и кроткий ум,
поглощенный тем, что нетленно и вечно. Такой человек бесспорно был бы достоин
того, чтобы вовсе не иметь политических убеждений. Да не поймут превратно нашу
мысль, – мы не смешиваем так называемые «политические убеждения» с
возвышенным стремлением к прогрессу, с высокой верой в отечество, в народ и в
человека, которая в наши дни должна лежать в основе мировоззрения всякого
благородного мыслящего существа. Не углубляя вопросов, имеющих лишь косвенное
отношение к содержанию данной книги, скажем просто было бы прекрасно, если бы
монсеньор Бьенвеню не был роялистом и если бы его взор ни на мгновенье не
отрывался от безмятежного созерцания трех чистых светочей – истины,
справедливости и милосердия, – ярко сияющих над бурной житейской суетойю.
Признавая, что бог создал моньсеньора Бьенвеню отнюдь не для
политической деятельности, мы тем не менее поняли и приветствовали бы его
протест во имя права и свободы, гордый отпор, чреватое опасностями, но
справедливое сопротивление всесильному Наполеону. Однако то, что похвально по
отношению к восходящему светилу, далеко не так похвально по отношению к светилу
нисходящему. Борьба привлекает нас тогда, когда она сопряжена с риском, и уж,
конечно, право на последний удар имеет лишь тот, кто нанес первый. Тот, кто не
выступал с настойчивым обвинением в дни благоденствия, обязан молчать, когда
произошел крах. Только открытый враг преуспевавшего является законным мстителем
после его падения. Что касается нас, то, когда вмешивается и наказует
провидение, мы уступаем ему поле действия. 1812 год начинает нас обезоруживать.
В 1813 году Законодательный корпус, до той поры безмолвный и осмелевший после
ряда катастроф, подло нарушил свое молчание: это не могло вызвать ничего, кроме
негодования, и рукоплескать ему было бы ошибкой; в 1814 году при виде
предателей-маршалов, при виде сената, который, переходя от низости к низости,
оскорблял того, кого он обожествлял, при виде идолопоклонников, трусливо
пятившихся назад и оплевывавших недавнего идола, каждый счел своим долгом
отвернуться; в 1815 году, когда в воздухе появились предвестники страшных
бедствий, когда вся Франция содрогалась, чувствуя их зловещее приближение, когда
уже можно было различить смутное видение разверстого перед Наполеоном Ватерлоо,
в горестных приветствиях армии и народа, встретивших осужденного роком, не было
ничего достойного осмеяния, и, при всей неприязни к деспоту, такой человек, как
епископ Диньский, пожалуй, не должен был закрывать глаза на все то
величественное и трогательное, что таилось в этом тесном объятии великой нации
и великого человека на краю бездны.
За этим исключением епископ был и оставался во всем
праведным, искренним, справедливым, разумным, смиренным и достойным; он творил
добро и был доброжелателен, что является другой формой того же добра. Это был
пастырь, мудрец и человек. Даже в своих политических убеждениях, за которые мы
только что упрекали его и которые мы склонны осуждать весьма сурово, он был –
этого у него отнять нельзя – снисходителен и терпим, быть может, более, чем мы
сами, пишущие эти строки. Привратник диньской ратуши, когда-то назначенный на
эту должность самим императором, был старый унтер-офицер старой гвардии, награжденный
крестом за Аустерлиц и не менее рьяный бонапартист, чем императорский орел. У
этого бедняги вырывались порой не совсем обдуманные слова, которые по тогдашним
законам считались «бунтовскими речами». После того как профиль императора исчез
с ордена Почетного легиона, старик никогда не одевался «по уставу» – таково
было его выражение, – чтобы не быть вынужденным надевать и свой крест. Он
с благоговением, собственными руками, вынул из креста, пожалованного ему
Наполеоном, изображение императора, вследствие чего в кресте появилась дыра, и
ни за что не хотел вставить что-либо на его место. «Лучше умереть, –
говорил он, – чем носить на сердце трех жаб!» Он любил во всеуслышание
издеваться над Людовиком XVIII. «Старый подагрик в английских гетрах? Пусть убирается
в Пруссию со своей пудреной косицей!» – говаривал он, радуясь, что может в
одном ругательстве объединить две самые ненавистные для него вещи: Пруссию и
Англию. В конце концов он потерял место. Вместе с женой и детьми он очутился на
улице без куска хлеба. Епископ послал за ним, мягко побранил его и назначил на
должность привратника собора.
За девять лет монсеньор Бьенвеню добрыми делами и кротостью
снискал себе любовное и как бы сыновнее почтение обитателей Диня. Даже его
неприязнь к Наполеону была принята молча и прощена народом: слабовольная и
добродушная паства боготворила своего императора, но любила и своего епископа.
|


