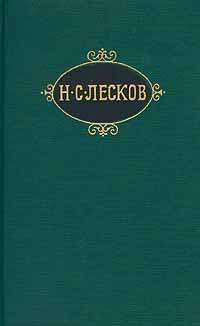
 Увеличить Увеличить |
ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ
Вхожу я с такою отважною решимостью на крылечко,
перекрестился и зачурался, ничего: дом стоит, не шатается, и вижу: двери
отворены, и впереди большие длинные сени, а в глубине их на стенке фонарь со
свечою светит. Осмотрелся я и вижу налево еще две двери, обе циновкой обиты, и
над ними опять этакие подсвечники с зеркальными звездочками. Я и думаю: что же
это такое за дом: трактир как будто не трактир, а видно, что гостиное место, а
какое — не разберу. Но только вдруг вслушиваюсь, и слышу, что из-за этой
циновочной двери льется песня… томная-претомная, сердечнейшая, и поет ее голос,
точно колокол малиновый, так за душу и щипет, так и берет в полон. Я и слушаю и
никуда далее не иду, а в это время дальняя дверка вдруг растворяется, и я вижу,
вышел из нее высокий цыган в шелковых штанах, а казакин бархатный, и кого-то
перед собою скоро выпроводил в особую дверь под дальним фонарем, которую я
спервоначала и не заметил. Я, признаться, хоть не хорошо рассмотрел, кого это
он спровадил, но показалось мне, что это он вывел моего магнетизера и говорит
ему вслед:
— Ладно, ладно, не обижайся, любезный, на этом
полтиннике, а завтра приходи: если нам от него польза будет, так мы тебе за его
приведение к нам еще прибавим.
И с этим дверь на защелку защелкнул и бегит ко мне будто ненароком,
отворяет передо мною дверь, что под зеркальцем, и говорит:
— Милости просим, господин купец, пожалуйте наших песен
послушать! Голоса есть хорошие.
И с этим дверь перед мною тихо навстежь распахнул… Так,
милостивые государи, меня и обдало не знаю чем, но только будто столь мне
сродным, что я вдруг весь там очутился. Комната этакая обширная, но низкая, и
потолок повихнут, пузом вниз лезет, все темно, закоптело, и дым от табаку такой
густой, что люстра наверху висит, так только чуть ее знать, что она светится. А
внизу в этом дымище люди… очень много, страсть как много людей, и перед ними
этим голосом, который я слышал, молодая цыганка поет. Притом, как я взошел, она
только последнюю штучку тонко-претонко, нежно дотянула и спустила на нет, и
голосок у нее замер… Замер ее голосок, и с ним в одно мановение точно всё
умерло… Зато через минуту все как вскочат, словно бешеные, и ладошами плещут и
кричат. А я только удивляюсь: откуда это здесь так много народу и как будто еще
все его больше и больше из дыму выступает? «Ух, — думаю, — да не дичь
ли это какая-нибудь вместо людей?» Но только вижу я разных знакомых господ
ремонтеров и заводчиков и так просто богатых купцов и помещиков узнаю, которые
до коней охотники, и промежду всей этой публики цыганка ходит этакая… даже
нельзя ее описать как женщину, а точно будто как яркая змея, на хвосте движет и
вся станом гнется, а из черных глаз так и жжет огнем. Любопытная фигура! А в
руках она держит большой поднос, на котором по краям стоят много стаканов с
шампанским вином, а посредине куча денег страшная. Только одного серебра нет, а
то и золото, и ассигнации, и синие синицы, и серые утицы, и красные
косачи, — только одних белых лебедей нет. Кому она подаст стакан, тот
сейчас вино выпьет и на поднос, сколько чувствует усердия, денег мечет, золото
или ассигнации; а она его тогда в уста поцелует и поклонится. И обошла она
первый ряд и второй — гости вроде как полукругом сидели — и потом проходит и
самый последний ряд, за которым я сзади за стулом на ногах стоял, и было уже назад
повернула, не хотела мне подносить, но старый цыган, что сзади ее шел, вдруг
как крикнет:
— Грушка! — и глазами на меня кажет. Она
взмахнунула на него ресничищами… ей-богу, вот этакие ресницы,
длинные-предлинные, черные, и точно они сами по себе живые и, как птицы какие,
шевелятся, а в глазах я заметил у нее, как старик на нее повелел, то во всей в
ней точно гневом дунуло. Рассердилась, значит, что велят ей меня потчевать, но,
однако, свою должность исполняет: заходит ко мне на задний ряд, кланяется и говорит;
— Выкушай, гость дорогой, про моё здоровье!
А я ей даже и отвечать не могу: такое она со мною сразу
сделала! Сразу, то есть, как она передо мною над подносом нагнулась и я увидал,
как это у нее промеж черных волос на голове, будто серебро, пробор вьется и за
спину падает, так я и осатанел, и весь ум у меня отняло. Пью ее угощенье, а сам
через стакан ей в лицо смотрю и никак не разберу: смугла она или бела она, а
меж тем вижу, как у нее под тонкою кожею, точно в сливе на солнце, краска рдеет
и на нежном виске жилка бьет… «Вот она, — думаю, — где настоящая-то
красота, что природы совершенство называется; магнетизер правду сказал: это
совсем не то, что в лошади, в продажном звере».
И вот я допил стакан до дна и стук им об поднос, а она стоит
да дожидается, за что ласкать будет. Я поскорее спустил на тот конец руку в
карман, а в кармане все попадаются четвертаки, да двугривенные, да прочая
расхожая мелочь. Мало, думаю; недостойно этим одарить такую язвинку, и перед
другими стыдно будет! А господа, слышу, не больно тихо цыгану говорят:
— Эх, Василий Иванов, зачем ты велишь Груше этого
мужика угощать? нам это обидно. А он отвечает:
— У нас, господа, всякому гостю честь и место, и моя
дочь родной отцов цыганский обычай знает; а обижаться вам нечего, потому что вы
еще пока не знаете, как иной простой человек красоту и талант оценить может. На
это разные примеры бывают.
А я, это слышучи, думаю:
«Ах вы, волк вас ешь! Неужели с того, что вы меня богатее,
то у вас и чувств больше? Нет уже, что будет, то будет: после князю отслужу, а
теперь себя не постыжу и сей невиданной красы скупостью не унижу».
Да с этим враз руку за пазуху, вынул из пачки сторублевого
лебедя, да и шаркнул его на поднос. А цыганочка сейчас поднос в одну ручку
переняла, а другою мне белым платком губы вытерла и своими устами так слегка
даже как и не поцеловала, а только будто тронула устами, а вместо того точно
будто ядом каким провела, и прочь отошла.
Она отошла, а я было на том же месте остался, но только тот
старый цыган, этой Груши отец, и другой цыган подхватили меня под руку, и
волокут вперед, и сажают в самый передний ряд рядом с исправником и с другим и
господами.
Мне было, признаться, на это и неохота: я не хотел
продолжать и хотел вон идти; но они просят, и не пущают, и зовут:
— Груша! Грунюшка, останови гостя желанного!
И та выходит и… враг ее знает, что она умела глазами делать:
взглянула, как заразу какую в очи пустила, а сама говорит:
— Не обидь: погости у нас на этом месте.
— Ну уж тебя ли, — говорю, — кому обидеть
можно, — и сел.
А она меня опять поцеловала, и опять то же самое осязание:
как будто ядовитою кисточкою уста тронет и во всю кровь до самого сердца болью
прожжет.
И после этого начались опять песни и пляски, и опять другая
цыганка с шампанеей пошла. Тоже и эта хороша, но где против Груши! Половины той
красоты нет, и за это я ей на поднос зацепил из кармана четвертаков и сыпнул…
Господа это взяли в пересмех, но мне все равно, потому я одного смотрю, где
она, эта Грушенька, и жду, чтобы ее один голос без хора слышать, а она не поет.
Сидит с другими, подпевает, но сóлу не делает, и мне ее голоса не
слыхать, а только роток с белыми зубками видно… «Эх ты, — думаю, —
доля моя сиротская: на минуту зашел и сто рублей потерял, а вот ее-то одну и не
услышу!» Но на мое счастье не одному мне хотелося ее послушать, и другие
господа важные посетители все вкупе закричали после одной перемены:
— Груша! Груша! «Челнок», Груша! «Челнок»!
Вот цыганы покашляли, и молодой ее брат взял в руки гитару,
а она запела. Знаете, их пение обыкновенно достигательное и за сердца трогает,
а я как услыхал этот самый ее голос, на который мне еще из-за двери манилось,
расчувствовался. Ужасно мне как понравилось! Начала она так как будто
грубовато, мужественно, эдак: «Мо-о-ре во-оо-о-ет, мо-ре сто-нет». Точно в
действительности слышно, как и море стонет и в нем челночок поглощенный бьется.
А потом вдруг в голосе совсем другая перемена, обращение к звезде: «Золотая,
дорогая, предвещательница дня, при тебе беда зеленая недоступна до меня». И
опять новая обратность, чего не ждешь. У них все с этими с обращениями: то
плачет, томит, просто душу из тела вынимает, а потом вдруг как хватит совсем в
другом роде, и точно сразу опять сердце вставит… Так и тут она это «море»-то с
«челном» всколыхала, а другие как завизжат всем хором:
Джа-лá-ла. Джа-ла-ла.
Джа-лá-ла прингалá!
Джа-ла-ла принга-ла.
Гай да чепурингаля!
Гей гоп-гай, та-гара!
Гей гоп-гай-та гара!
и потом Грушенька опять пошла с вином и с подносом, а я ей
опять из-за пазухи еще одного лебедя… На меня все оглядываться стали, что я их
своими подарками ниже себя ставлю; так что им даже совестно после меня класть,
а я решительно уже ничего не жалею, потому моя воля, сердце выскажу, душу
выкажу, и выказал. Что Груша раз ни споет, то я ей за то лебедя, и уже не
считаю, сколько их выпустил, а даю да и кончено, и зато другие ее все разом
просят петь, она на все их просьбы не поет, говорит «устала», а я один кивну
цыгану: не можно ли, мол, ее понудить? тот сейчас на ее глазами поведет, она и
поет. И много-с она пела, песня от песни могучее, и покидал я уже ей много, без
счету лебедей, а в конце, не знаю, в который час, но уже совсем на заре, точно
и в самом деле она измаялась, и устала, и, точно с намеками на меня глядя,
завела: «Отойди, не гляди, скройся с глаз моих». Этими словами точно гонит, а
другими словно допрашивает: «Иль играть хочешь ты моей львиной душой и всю
власть красоты испытать над собой». А я ей еще лебедя! Она меня опять поневоле
поцеловала, как ужалила, и в глазах точно пламя темное, а те, другие, в этот
лукавый час напоследях как заорут:
Ты восчувствуй, милáя,
Как люблю тебя, драгая!
и все им подтягивают да на Грушу смотрят, и я смотрю да
подтягиваю: «ты восчувствуй!» А потом цыгане как хватят: «Ходи, изба, ходи,
печь; хозяину негде лечь» — и вдруг все в пляс пошли… Пляшут и цыгане, пляшут и
цыганки, и господа пляшут: все вместе вьются, точно и в самом деле вся изба
пошла. Цыганки перед господами носятся, и те поспевают, им вслед гонят, молодые
с посвистом, а кои старше с покрехтом. На местах, гляжу, уже никого и не
остается… Даже от которых бы степенных мужчин и в жизнь того скоморошества не
ожидал, и те все поднимаются. Посидит-посидит иной, кто посолиднее, и сначала,
видно, очень стыдится идти, а только глазом ведет, либо усом дергает, а потом
один враг его плечом дернет, другой ногой мотнет, и смотришь, вдруг вскочит и
хоть не умеет плясать, а пойдет такое ногами выводить, что ни к чему годно!
Исправник толстый-претолстый, и две дочери у него были замужем, а и тот с
зятьями своими тут же заодно пыхтит, как сом, и пятками месит, а
гусар-ремонтер, ротмистр богатый и собой молодец, плясун залихватский, всех
ярче действует: руки в боки, а каблуками навыверт стучит, перед всеми идет —
козырится, взагреб валяет, а с Грушей встренется — головой тряхнет, шапку к
ногам ее ронит и кричит: «Наступи, раздави, раскрасавица!» — и она… Ох, тоже
плясунья была! Я видал, как пляшут актерки в театрах, да что все это, тьфу, все
равно что офицерский конь без фантазии на параде для одного близиру манежится,
невесть чего ерихонится, а огня-жизни нет. Эта же краля как пошла, так как
фараон плывет — не колыхнется, а в самой, в змее, слышно, как и хрящ хрустит и
из кости в кость мозжечок идет, а станет, повыгнется, плечом ведет и бровь с
носком ножки на одну линию строит… Картина! Просто от этого виденья на ее танец
все словно свой весь ум потеряли: рвутся к ней без ума, без памяти: у кого
слезы на глазах, а кто зубы скалит, но все кричат:
«Ничего не жалеем: танцуй!»—деньги ей так просто зря под
ноги мечут, кто золото, кто ассигнации. И все тут гуще и гуще завеялось, и я
лишь один сижу, да и то не знаю, долго ли утерплю, потому что не могу глядеть,
как она на гусарову шапку наступает… Она ступит, а меня черт в жилу щелк; она
опять ступит, а он меня опять щелк, да, наконец, думаю: «Что же мне так себя
всуе мучить! Пущу и я свою душу погулять вволю», — да как вскочу, отпихнул
гусара, да и пошел перед Грушею вприсядку… А чтобы она на его, гусарову, шапку
не становилася, такое средство изобрел, что, думаю, все вы кричите, что ничего
не жалеете, меня тем не удивите: а вот что я ничего не жалею, так я то
делом-правдою докажу, да сам прыгну, и сам из-за пазухи ей под ноги лебедя и
кричу: «Дави его! Наступай!» Она было не того… даром, что мой лебедь гусарской
шапки дороже, а она и на лебедя не глядит, а все норовит за гусаром; да только
старый цыган, спасибо, это заметил, да как на нее топнет… Она и поняла и пошла
за мной… Она на меня плывет, глаза вниз спустила, как змеища-горынище, ажно
гневом землю жжет, а я перед ней просто в подобии беса скачу, да все, что раз
прыгну, то под ножку ей мечу лебедя… Сам ее так уважаю, что думаю: не ты ли,
проклятая, и землю и небо сделала? а сам на нее с дерзостью кричу: «ходи
шибче», да все под ноги ей лебедей, да раз руку за пазуху пущаю, чтобы еще
одного достать, а их, гляжу, там уже всего с десяток остался… «Тьфу ты, —
думаю, — черт же вас всех побирай!»—скомкал их всех в кучку, да сразу их
все ей под ноги и выбросил, а сам взял со стола бутылку шампанского вина, отбил
ей горло и крикнул:
— Сторонись, душа, а то оболью! — да всю сразу и
выпил за ее здоровье, потому что после этой пляски мне пить страшно хотелось.
|


