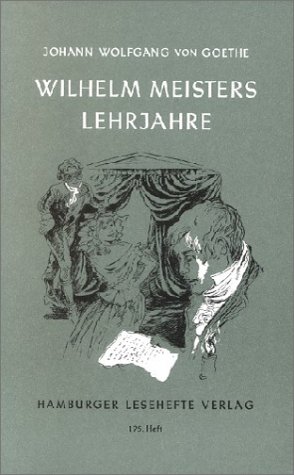
 Увеличить Увеличить |
ГЛАВА ВОСЬМАЯ
По
дороге в город Вильгельма неотступно преследовали благородные образы женщин, которых
он узнал, о которых услышал. Их необычайные и нерадостные судьбы вставали перед
ним до боли явственно. «Увы! – мысленно восклицал он. – Бедняжка
Мариана! Что еще мне доведется узнать о тебе? А ты, блистательная амазонка,
великодушный ангел – хранитель, я стольким тебе обязан, я повсюду надеюсь
встретить тебя и, на свою беду, нигде не нахожу, – при каких печальных
обстоятельствах ты, быть может, предстанешь мне, если нам когда-нибудь суждено
встретиться вновь?»
В городе
никого из его знакомых не было дома. Он поспешил в театр, рассчитывая застать
актеров на репетиции; там стояла тишина, здание казалось пустым, но одна из
ставен была открыта. Поднявшись на сцену, он увидел старую служанку Аврелии,
занятую сшиванием холста для новой декорации; света из окна падало здесь не
больше, чем требовалось для ее работы. Феликс и Миньона сидели около нее на
полу; оба держали в руках книгу. Миньона читала вслух, а Феликс повторял за ней
каждое слово, будто он знал буквы, будто тоже умел читать.
Дети
вскочили навстречу вновь прибывшему, он нежно обнял их и подвел к старухе.
– Это
ты привезла мальчика к Аврелии? – строго спросил он.
Она
подняла голову от работы и повернула к нему лицо; он увидел ее на свету и в
испуге отступил назад; то была старуха Барбара.
– Где
Мариана? – крикнул он.
– Далеко
отсюда, – ответила старуха.
– А
Феликс?
– Сын
этой несчастной, слишком горячо любившей девушки! Дай бог вам никогда не почувствовать,
чего вы нам стоили, дай бог, чтобы сокровище, которое я вам вручаю, сделало вас
таким счастливым, какими несчастными мы стали из-за него!
Она
встала и собралась уйти, Вильгельм удержал ее.
– Я
не думаю бежать от вас, – сказала она, – пустите меня, я хочу вам
принести документ, который вас обрадует и огорчит.
Она
удалилась, а Вильгельм смотрел на мальчика с боязливой радостью; он еще не смел
считать его своим.
– Он
твой! Твой! – вскричала Миньона, прижигая мальчика к коленам Вильгельма.
Вернулась
старуха и протянула ему письмо, сказав:
– Это
последние слова Марианы.
– Она
умерла! – выкрикнул он.
– Умерла, –
сказала старуха. – О, я бы дорого дала, чтобы избавить вас от упреков.
В
растерянности и смятении вскрыл Вильгельм письмо. Но едва он прочитал первые
слова, его пронизала жгучая боль. Он выронил письмо, упал на дерновую скамью и
некоторое время лежал без движения. Миньона хлопотала возле него. А Феликс
поднял письмо и до тех пор теребил свою подружку, пока она не уступила, встала
возле него на колени и принялась читать ему письмо. Феликс повторял слово за
словом, и Вильгельм вынужден был слушать их дважды.
«Если
письмо это когда-нибудь достигнет тебя, пожалей тогда свою злосчастную возлюбленную,
твоя любовь принесла ей смерть. Мальчик, после рождения которого мне осталось
жить считанные дни, – твой ребенок; я умираю верной тебе, хотя бы
видимость и говорила против меня. Вместе с тобой ушло все, что привязывало меня
к жизни. Я умираю успокоенной, меня уверили, что ребенок здоровый и будет жить.
Выслушай старую Барбару, прости ее, будь счастлив и не забывай меня».
Какое
горестное и отчасти утешительное своей загадочностью письмо, смысл которого он
прочувствовал сполна, когда дети, заикаясь и запинаясь, читали и повторяли его!
– Вот
вам! – выкрикнула старуха, не дожидаясь, чтобы он опомнился. –
Благодарите небо, что, потеряв такую хорошую девушку, вы получили такого
прекрасного ребенка. Ничто не сравнится с вашим отчаянием, когда вы услышите,
что бедняжка была до конца верна вам, и сколько она хлебнула горя, и чем только
не пожертвовала ради вас!
– Дай
мне сразу испить кубок скорби и радости! – вскричал Вильгельм. –
Уговори, убеди меня, что она была хорошей девушкой, достойной моего уважения,
как и моей любви! А потом уж оставь меня скорбеть об этой невозместимой утрате!
– Сейчас
не время! – возразила старуха. – Я занята делом и не желаю, чтобы нас
застали вместе. Сохраните в тайне, что Феликс ваша кровь; в труппе меня сжили
бы со свету за такое скрытничанье. Миньона нас не выдаст, она девочка добрая и
не болтливая.
– Я
давно это знала и молчала, – вставила Миньона.
– Каким
образом? – изумилась старуха.
– Откуда? –
подхватил Вильгельм.
– Дух
открыл мне это.
– Где?
Когда?
– В
пристройке, когда старик вынул нож, я услышала голос: «Позови его отца!» – и
подумала о тебе.
– Кто
же это крикнул?
– Не
знаю, кричало у меня в сердце, в голове, мне было ужас как страшно. Я дрожала,
молилась, и тут раздался голос, я поняла его.
Вильгельм
обнял ее, поручил ей Феликса и ушел. Лишь под конец заметил он, что она сильно
побледнела и похудела с их разлуки. Первой изо всех знакомых он застал мадам
Мелина; она по-дружески приветствовала его.
– Ах!
Если бы все у нас было так, как вам хотелось! – воскликнула она.
– Я
ни минуты не ждал этого, – отвечал Вильгельм.-' Сознайтесь, сделано все,
чтобы не нуждаться во мне.
– Так
почему же вы уехали? – спросила приятельница.
– Чем
раньше, тем лучше убедиться в том, как мало нужны мы миру. А какими незаменимыми
личностями считаем мы себя! Нам кажется, будто мы одни оживляем тот круг, в
котором вращаемся. В наше отсутствие, воображаем мы, замирает все: жизнь,
питание, дыхание, но возникающий пробел остается незамечён и быстро
восполняется, притом нередко если не чем-то более удачным, то более приятным.
– А
огорчение друзей в расчет не принимается?
– Друзья
поступают разумно, быстро успокоившись и решив про себя: где ты был и остался,
там делай что можешь, действуй, и угождай, и радуйся настоящему!
Расспросив
ее подробнее, Вильгельм узнал то, чего и ожидал: опера была на ходу и привлекала
к себе все внимание публики. Его роли поделили между собой Лаэрт и Горацио,
заслужив такое горячее одобрение зрителей, какого он никогда не знавал.
Вошел
Лаэрт, и мадам Мелина встретила его словами:
– Посмотрите-ка
на этого счастливца, который собирается стать капиталистом или еще невесть чем!
Обнимая
приятеля, Вильгельм на ощупь заметил, какого тонкого сукна на нем кафтан,
остальная одежда была проста, но тоже отменного качества.
– Разрешите
мне эту загадку! – потребовал Вильгельм.
– Не
торопитесь, – отвечал Лаэрт. – Вы успеете узнать, что моя беготня
теперь оплачивается. Хозяин большого торгового дома извлекает прибыль из моей
непоседливости, моих сведений и знакомств и малую толику барышей уделяет мне. Я
дорого бы дал, чтобы попутно приобрести доверие к женщинам, ибо в доме
проживает премилая племянница, и я замечаю, что мог бы скоро стать зажиточным
человеком.
– Вы,
должно быть, еще не знаете, что за это время у нас отпраздновали свадьбу? –
спросила мадам Мелина. – Зерло все-таки честь по чести обвенчался с
красавицей Эльмирой, потому что ее папенька не желал терпеть их секретную
связь.
Так
беседовали они о многом, что произошло в его отсутствие, и ему было ясно, что
труппа в душе и в мыслях давно уже дала ему отставку.
С
нетерпением ждал он старуху, которая назначила свое таинственное посещение на
поздний вечер. Она собиралась прийти, когда все кругом будут спать, и требовала
не меньших предосторожностей, чем юная девушка, тайком пробирающаяся к
возлюбленному. Он тем временем в сотый раз перечитывал письмо Марианы, с
неизъяснимым упоением читал слово верность, начертанное ее милой рукой,
и с ужасом – возвещение близкой смерти, по-видимому, не страшившей ее.
Уже
заполночь что-то зашелестело у полуотворенной двери, и вошла старуха с корзиночкой
в руках.
– Я
пришла рассказать вам историю наших бед, – начала она, – хоть и жду,
что не трону вас своим рассказом, ибо ждали вы меня так нетерпеливо лишь в
чаянии насытить свое любопытство, и что теперь, как и тогда, вы замкнетесь в
своем холодном себялюбии, а у нас пускай разрывается сердце. Но взгляните! Вот
точно так же достала я в тот счастливый вечер бутылку шампанского, поставила на
стол три бокала, и, как вы тогда принялись нас морочить и баюкать невинными
детскими сказками, я сейчас хочу открыть вам глаза и развеять ваш сон печальной
правдой.
Вильгельм
не знал, что сказать, когда старуха в самом деле раскупорила бутылку и наполнила
три бокала.
– Пейте! –
крикнула она, залпом осушив свой бокал. – Пейте, пока не вышел газ! А этот
третий бокал пусть пенится нетронутым в память моей несчастной питомицы. Как в
тот раз рдели ее губы, когда она чокалась с вами! Увы, теперь они навеки
поблекли и застыли!
– Сивилла![71] Фурия! –
выкрикнул Вильгельм, вскочив, и стукнул кулаком по столу, – какой злой дух
владеет и управляет тобой? За кого ты меня почитаешь, если думаешь, что
бесхитростный рассказ о страданиях и смерти Марианы сам по себе недостаточно
больно меня ранит, и, чтобы усугубить пытку, прибегаешь к таким дьявольским
уловкам? Если твое неуемное пьянство дошло до того, что попускает тебя
бражничать на поминках, так пей и говори! Я всегда гнушался тобой и по сей день
не могу поверить в невинность Марианы при виде тебя* ее наперсницы.
– Потише,
сударь мой, – одернула его старуха, – вам не вывести меня из
терпения. Вы перед нами все еще в большом долгу, а от должников не положено
сносить грубости. Но вы правы, самый мой простой рассказ – достаточная для вас
кара. Так послушайте же, как боролась и как победила Мариана, чтобы остаться
вашей.
– Моей? –
вскричал Вильгельм. – Что за басни ты плетешь?
– Не
перебивайте меня, – оборвала она, – сперва выслушайте, а потом
думайте что хотите, теперь уже все едино. В последний вечер, что вы были у нас,
вам, верно, попалась записка и вы захватили ее с собой.
– Мне
она попалась только дома; она была засунута в шейный платок, который я взял и
спрятал в порыве страстной любви.
– О
чем говорилось в записке?
– О
надеждах обиженного любовника, что нынешнюю ночь он будет принят лучше, чем
вчера. И он не был разочарован, в чем я убедился, увидев собственными глазами,
как оа на рассвете вышмыгнул из вашего дома.
– Может,
вы его и видели; а вот что происходило у фас, как грустна была Мариана и каково
мне пришлось в эту ночь, об этом вы узнаете только сейчас. Буду говорить прямо,
ни отпираясь, ни оправдываясь, – это я уговорила Мариану отдаться некоему
Норбергу; она согласилась, вернее сказать, подчинилась мне с отвращением. Он
был богат, казался влюбленным, и я надеялась на его постоянство. Очень скоро
ему пришлось уехать, а Мариана познакомилась с вами. Чего только не пришлось
мне тут натерпеться! Чего только не предотвращать, с чем только не мириться!
«О, хоть месяц еще пощадила бы ты мою невинность, мою юность, – кричала
она мне, – я бы нашла себе предмет, достойный любви, я была бы достойна
его и, любя, со спокойной совестью, могла бы отдать то, что теперь продала
против воли». Она беззаветно отдалась своему чувству, и мне нет надобности
спрашивать, были ли вы счастливы.
Я имела
неограниченную власть над ее рассудком, потому что знала все способы удовлетворять
ее мелкие прихоти, но над сердцем ее я была бессильна; она никогда не
соглашалась с тем, что я делала, на что ее толкала, если этому противилось ее
сердце; она уступала лишь непреодолимой нужде, а нужда вскоре навалилась на нее
тяжким гнетом. В годы ранней юности она ни в чем не знала недостатка. По
несчастливому стечению обстоятельств семья ее лишилась состояния, бедняжка же
привыкла удовлетворять разные свои потребности, в ребяческую ее душу были
заложены добрые понятия, которые только тревожили ее, а помочь мало чем могли.
В делах житейских она была совсем не искушена, можно сказать, по-настоящему невинна.
Ей в голову не приходило, что можно покупать, не платя, и ничего она так не
боялась, как долгов; она куда охотнее давала бы, чем брала. И только
безвыходное положение вынудило ее отдаться самой, чтобы заплатить уйму мелких
долгов.
– А
ты не могла ее спасти? – вскричал Вильгельм.
– Конечно,
могла бы ценой голода и нужды, маеты и лишений. А это было вовсе не по мне.
– Гнусная,
подлая сводня! Ты пожертвовала бедняжкой, лишь было бы чем залить глотку и
напитать свою ненасытную утробу!
– Вам
бы лучше угомониться и попридержать язык, – оборвала его старуха. – А
браниться ступайте в ваши господские хоромы, там вы найдете матерей, которые не
знают покоя, доколе не выдадут своего милого непорочного ангелочка за самого
что ни на есть отпетого негодяя, лишь бы он был и самым богатым. Вы увидите,
как бедняжка дрожит и трепещет перед такой участью и нигде не находит утешения,
покуда опытная подружка не объяснит ей, что супружество дает право как
заблагорассудится располагать своим сердцем и своей персоной.
– Молчи! –
прикрикнул Вильгельм. – И не считай, что одно преступление можно оправдать
другим. Рассказывай и оставь свои замечания.
– Так
слушайте, не понося меня! Мариана отдалась вам наперекор моей воле. По крайней
мере, в этих шашнях я ни при чем. Норберг воротился, он спешил увидеть Мариану,
а она встретила его холодно, с кислой миной и не допустила пи единого поцелуя.
Мне потребовалась вся моя сноровка, чтобы оправдать такое поведение. Я дала ему
понять, что духовник расшевелил в ней совесть, а совесть, коль скоро она
заговорила, надо уважать. Я кое-как выдворила его, пообещав всеми способами
содействовать ему. Он был богатый и неотесанный малый, однако не без добродушия
и Мариану любил страстно. Он обещал набраться терпения, а я тем усерднее
старалась не слишком долго мытарить его. С Марианой я выдержала жестокую
баталию, всячески ее уговаривала и, признаюсь, угрозой бросить ее принудила
наконец написать любовнику и пригласить его на ночь. Явились вы и случайно
прихватили его ответ вместе с платком. Ваш неожиданный приход сильно подвел
меня. Не успели вы уйти, как мучительство началось сызнова; Мариана клялась,
что не может изменить вам, и дошла до такого исступления, так не помнила себя,
что я от души пожалела ее и в конце концов обещала, что и на эту ночь умиротворю
Норберга, отправлю его под любым предлогом, я просила ее лечь в постель, но
она, как видно, не поверила мне: не стала снимать платье и, наплакавшись,
наволновавшись, уснула наконец как была, одетая.
Пришел
Норберг; я постаралась его остановить, в самых мрачных красках рисовала ее
угрызения, ее раскаяние. Он желал только взглянуть на нее, и я отправилась в
спальню ее предупредить; он пошел следом, и мы в одно время очутились у ее
кровати. Она проснулась, в ярости вскочила и вырвалась от нас; она заклинала и
просила, умоляла, грозила и божилась, что не уступит. По неосторожности она
обронила несколько слов о своей подлинной страсти; бедняга Норберг, как видно,
истолковал их в духовном смысле. Наконец он покинул ее, и она заперлась на
ключ. Я долго не отпускала его, говорила о ее состоянии, о том, что она
беременна, и надо щадить бедняжку. Он так возгордился своим отцовством, так
обрадовался будущему сыну, что был согласен на все, чего она требовала, и
обещал лучше на время уехать, нежели беспокоить свою возлюбленную и вредить ей
излишними волнениями. Вот с такими намерениями он незадолго до рассвета убрался
от меня, а коль вы, сударь мой, уже стояли на страже, вам для полного
блаженства следовало только заглянуть в душу вашего соперника, которого вы
почитали таким счастливцем, таким баловнем судьбы, что от одного его появления
погрузились в отчаяние.
– Это
верно? – спросил Вильгельм.
– Не
менее верно, чем то, что я надеюсь снова погрузить вас в бездну отчаяния. Да,
вы, конечно, пришли бы в отчаяние, если бы я сумела живо изобразить вам, каково
было наше состояние на следующее утро. Какой веселой проснулась она! Как
приветливо меня окликнула! Как горячо благодарила! Как ласково прижала меня к
своей груди! «Ну вот, – сказала она, с улыбкой подходя к зеркалу, – я
снова могу любоваться собой, своей фигурой, ведь я снова принадлежу себе и
своему единственному любимому другу. Как сладостно одержать верх! Какое райское
блаженство следовать велению сердца! Как я признательна тебе за то, что ты
встала на мою защиту, что весь свой разум и весь здравый смысл употребила на
сей раз мне во благо. Помоги мне, придумай, как сделать, чтобы я стала вполне
счастливой».
Я
поддакивала ей, не желая ее раздражать, я поощряла ее надежду, а она ласкала
меня как нельзя нежнее. Стоило ей на миг отойти от окна, как она требовала,
чтобы я караулила вместо нее. Ведь вы должны были во что бы то ни стало пройти
мимо, ведь можно было хотя бы увидеть вас. Так тревожно прошел весь день.
Вечером мы уже не сомневались, что вы придете в урочный час. Я ждала вас на
лестнице, наконец потеряла терпение и воротилась к ней. Как же я была изумлена,
увидя ее одетую офицером, на диво веселую и пленительную. «Разве я не заслужила
явиться нынче в мужской одежде? Разве не держалась я молодцом? – спросила
она. – Пусть возлюбленный увидит меня такой, как в первый раз, а я с той
же нежностью, но с большей свободой, чем тогда, прижму его к сердцу: ведь
правда же, я нынче больше принадлежу ему, чем до того, как благородная
решимость освободила меня? Однако, – подумав, добавила она, – я еще
не одержала полной победы, мне еще надо отважиться на крайний шаг, чтобы стать
достойной его, чтобы с уверенностью считать его своим; я должна открыться ему
во всем без утайки, и пусть он сам тогда решает – остаться со мной или оттолкнуть
меня. Эту сцену я готовлю ему и сама готовлюсь к ней; и если любовь допустит
его оттолкнуть меня, я тогда буду опять всецело принадлежать себе и в этой каре
почерпну свое утешение, снесу всякое бремя, которое возложит на меня судьба».
С такими
помыслами, с такими надеждами, сударь мой, ждала вас эта благородная девушка;
вы не пришли. Ах, как описать мне эту муку ожидания и упований! Я доселе вижу
тебя перед собой, слышу, с какой любовью, с каким обожанием говорила ты о
человеке, чью жестокость еще не успела испытать!
– Милая,
добрая Барбара, – воскликнул Вильгельм, схвативши старуху за руку. –
Довольно притворствовать и подготовлять меня! Невозмутимый, спокойный,
самодовольный тон рассказа выдал тебя. Верни мне Мариану! Она жива, она где-то
тут, рядом, не зря ты назначила для своего прихода этот поздний укромный час,
не зря подготовляла меня своим завлекательным повествованием. Куда ты ее дела?
Куда спрятала? Я верю тебе во всем, я обещаю во всем тебе поверить, только
покажи мне ее, верни ее в мои объятия. Тень ее уже мелькнула передо мной, так
позволь же мне вновь сжать ее в своих объятиях. Я кинусь перед ней на колени, я
буду молить о прощении, я буду восхвалять ее борьбу и победу над собой и над
тобой, я приведу к ней моего Феликса. Идем же! Где ты ее скрываешь? Перестань
томить неизвестностью ее и меня. Твоя цель достигнута! Где ты ее прячешь? Идем,
вот свеча! Я хочу осветить, я хочу увидеть ее пленительный лик!
Он
насильно поднял старуху со стула, она тупо смотрела на него, слезы неизбывного
горя хлынули у нее из глаз.
– Какое
несчастное заблуждение напоследок питает ваши надежды! – воскликнула
она. – Да, я укрыла ее, только под землей! Ни свету солнца, ни мерцанию
свечи больше не дано озарить ее пленительный лик. Поведите милого Феликса на ее
могилу и скажите ему: тут лежит твоя мать, которую отец твой осудил, не
выслушав. Дорогое сердечко больше не стучит от нетерпения увидеть вас, и не
ждет оиа в соседней горнице, чем кончится мой рассказ или моя сказка; ее
приняла темная горница, куда не последует за ней жених, откуда она не выйдет
навстречу возлюбленному.
Старуха
упала наземь возле стула и горько зарыдала. На сей раз Вильгельм уверился в
том, что Мариана умерла, и скорбь овладела им.
Старуха
поднялась.
– Больше
мне нечего вам сказать! – выкрикнула она и бросила на стол какой-то
сверток. – Прочитайте эти листки – вам вдвойне станет стыдно своей
жестокости! Не знаю, можно ли читать их без слез.
Она
бесшумно выскользнула вон, а у Вильгельма в эту ночь не хватило духу открыть
портфельчик, который он сам подарил Мариане и знал, что она бережно хранила там
каждую записочку, полученную от него. На другое утро он пересилил себя,
развязал ленту, и из портфеля выпали листочки бумаги, исписанные его
собственной рукой; они воскресили в его памяти все события прошлого, от первого
радостного дня знакомства до последнего страшного дня разлуки. И с жгучей болью
прочитал он пачку записок, обращенных к нему. Их отсылал назад Вернер.
«Ни одно
из моих писем не попало к тебе. Мои мольбы и заклинанья не достигли тебя; неужто
сам ты дал такой жестокий приказ? Неужто я никогда больше тебя не увижу?
Попытаюсь еще раз. Молю тебя: приди, о, приди! Я не требую, чтобы ты остался,
только бы хоть раз еще прижать тебя к сердцу».
«Когда в
прежние дни я сидела возле тебя, держала твои руки, заглядывала тебе в глаза и
от всего сердца, полного любви и доверия, говорила: «Милый, милый, добрый мой
муж!» – тебе так нравилось слушать это и ты хотел, чтобы я все повторяла эти
слова; вот я повторяю их еще раз: «Милый, милый, добрый мой муж, будь таким же
добрым, как был, приди и не дай мне погибнуть от горя!»
«Ты
считаешь меня виноватой, я и виновата, но не тал, как ты думаешь. Приди, дай
мне последнее утешение, что ты знаешь меня, какая я есть, а там будь что
будет».
«Не
только ради себя, но и ради тебя самого молю я, чтобы ты пришел, я чувствую,
какую ты терпишь муку, избегая меня. Приди, чтобы смягчить жестокость
расставания!
Может
быть, больше всего я была достойна тебя как раз в ту минуту, когда ты оттолкнул
меня и бросил в бездонную пропасть отчаяния!»
«Во имя
всего святого, во имя всего, что может тронуть человеческое сердце, взываю я к
тебе! Дело идет о душе и о жизни, о двух жизнях, из которых одна должна быть
тебб навеки дорога. В своей подозрительности ты и этому не придашь веры, и все
же я говорю тебе в смертный свой час: твое дитя я ношу под сердцем. С тех пор
как я тебя полюбила, никто другой даже руку не посмел мне пожать. О, почему
твоя любовь, твое прямодушие не были от юности моими спутниками!»
«Ты не
хочешь меня выслушать? Что же, придется мне умолкнуть, но эти письма не должны
погибнуть; может быть, им еще суждено воззвать к тебе, когда мои уста уже
покроет надгробная пелена и голос твоего раскаяния не достигнет моих ушей. За
всю мою печальную жизнь вплоть до последней минуты единственным утешением будет
мне, что нет у меня вины перед тобой, хоть я и не смею назвать себя невинной».
Вильгельм
не мог продолжать – горе захлестнуло его; но еще тягостнее было ему скрывать
свои чувства, когда в комнату вошел Лаэрт с кошельком, полным дукатов; он их
считал и пересчитывал и уверял Вильгельма, что в мире нет ничего лучше, чем
быть на пути к богатству; богатому нет ни в чем помех и препон.
Вильгельм
вспомнил свой сон и улыбнулся, но тут же спохватился, с содроганием припомнив,
что в том же сновидении Мариана покинула его и последовала за его умершим
отцом, а потом оба, точно духи, воспарили над садом.
Лаэрт
оторвал его от грустных дум и повел в кофейню, где Вильгельма обступили люди,
весьма одобрявшие его как актера; они порадовались встрече с ним, но выразили
сожаление, что он, по слухам, намерен покинуть сцену; они так уверенно и
разумно говорили о нем, об его игре и даровании, о том, какие надежды возлагали
на него, что под конец Вильгельм, расчувствовавшись, воскликнул:
– Как
ценно было бы мне ваше участие несколько месяцев тому назад! Как поучительно и
как радостно! Ни за что бы я тогда не отрешился так безоговорочно от театра и
не дошел бы до того, чтобы разочароваться в публике.
– До
этого уж никак нельзя было дойти, – выступая вперед, заявил пожилой
мужчина. – Публика многочисленна, подлинное понимание и умение чувствовать
встречаются не так редко, как принято думать; только артисту нельзя ждать от
публики безоговорочного одобрения всего, что бы он ни создавал, – именно
безоговорочное-то недорого стоит, а оговорки господам артистам не по нутру. Я
знаю, в жизни, как и в искусстве, прежде чем что-то сделать или создать, надо
прислушаться к своему внутреннему голосу; когда же все кончено и завершено, вот
тогда следует внимательно выслушать многих и при помощи навыка составить из
этих многочисленных голосов полноценное суждение, ибо те, кто мог бы избавить
нас от такого труда, предпочитают помалкивать.
– Им
не следовало бы так себя вести! – сказал Вильгельм. – Я не раз
слышал, как люди сами словом не обмолвятся об удачных произведениях, а при этом
скорбят и сетуют, что о них молчат!
– Так
поговорим же сегодня всласть! – крикнул какой – то молодой человек. –
Если вы с нами отобедаете, мы сквитаем свой долг перед вами, а отчасти и перед
милейшей Аврелией.
Вильгельм
отклонил приглашение и отправился к мадам Мелина потолковать с ней о детях,
которых думал забрать у нее.
Тайна
старухи оказалась не в надежных руках. Он не замедлил проговориться, как только
увидел красавчика Феликса.
– Дитя
мое! Дорогое мое дитя! – воскликнул он, поднял его и прижал к своему
сердцу.
– Папа,
что ты мне привез? – спросил мальчик. Миньона поглядела на обоих, как бы
наказывая им не выдавать себя.
– Что
это еще за новость? – удивилась мадам Мелина.
Детей
поспешили выдворить, и Вильгельм, не считая себя обязанным блюсти тайну старухи,
поведал приятельнице всю историю. Мадам Мелина с улыбкой посмотрела на него.
– Ох,
и легковерный же народ мужчины! – воскликнула она. – Как легко
навязать им все, что бы ни попалось на их пути; зато в другие разы они не
глядят по сторонам и не придают цены ничему, кроме того, что когда-то отметили
своей любовной прихотью. – Ей не удалось подавить вздох, и, ие будь
Вильгельм совершенно слеп, он заметил бы в ее поведении следы так и не изжитой
склонности.
Он
заговорил с ней о детях, о том, что Феликса думает оставить у себя, а Миньону
отправить в деревню. Как ни огорчилась мадам Мелина разлуке сразу с обоими
детьми, однако сочла такое решение удачным и даже необходимым. Феликс совсем
одичал у нее, а Миньона явно нуждалась в свежем воздухе и других условиях
жизни; бедная девочка была слаба здоровьем и никак не могла окрепнуть.
– Не
приписывайте легкомыслию мои сомнения в том, действительно ли вы отец
ребенка, – продолжала мадам Мелина. – Конечно, старуха не очень-то
заслуживает доверия; но кто ради своей выгоды измышляет неправду, тот может
разок сказать и правду, коль скоро она покажется ему полезной. Аврелии старуха
нашептала, будто Феликс – сын Лотарио, а мы, женщины, отличаемся той
особенностью, что горячо привязываемся к детям наших любовников, либо вовсе не
зная матери, либо ненавидя ее всей душой.
Тут
вприпрыжку вбежал Феликс, и она прижала его к себе с горячностью, ей совсем не
свойственной.
Вильгельм
поспешил домой и позвал к себе старуху, однако она пообещала прийти только в
сумерки; он встретил ее неприветливо и сразу заявил:
– Что
может быть постыднее, чем сочинять сказки и враки. Ты уж и прежде натворила
этим много зла, а ныне, когда от твоего слова зависит счастье моей жизни, ныне
я полон сомнений и не смею заключить в свое объятие дитя, спокойное обладание
коим сделало бы меня поистине счастливым. Не могу без ненависти и презрения
смотреть на тебя, мерзкая тварь!
– Скажу
напрямик, я дольше не в силах терпеть ваше поведение, – ответствовала
старуха. – Допустим, он не был бы ваш сын, все равно это самый красивый,
самый милый ребенок на свете, и всякий рад бы любой ценой приобрести его. Разве
не стоит он того, чтобы вы взяли на себя попечение о нем? А разве я, положив на
него столько трудов и забот, не заслужила скромной поддержки на остаток дней?
Да, вам, господам, хорошо рассуждать о правде и прямоте, вы бедности не
знавали; но горемычной старухе, которая нигде не находит подспорья в самых
насущных своих нуждах, которую в трудную минуту никто не поддержит ни участием,
ни советом, ни помощью, каково-то ей пробиваться сквозь людскую черствость и
бедовать в тиши, – вот о чем много бы можно сказать, только вы не умеете и
не желаете слушать. Прочитали вы письма Марианы? Их она писала в ту злосчастную
пору. Тщетно пыталась я добраться до пас, напрасно билась, чтобы передать вам
эти письма; ваш бесчеловечный зять огородил вас таким заслоном, который я не
могла одолеть ни хитростью, ни сметкой, а когда ои под конец пригрозил нам с
Марианой тюрьмой, мне поневоле пришлось оставить всякую надежду. Разве все §то
не совпадает с моим рассказом? И разве письмо Норберга не устраняет всякие
сомнения?
– Что
за письмо? – спросил Вильгельм.
– Неужто
вы не нашли его в портфеле?
– Я
еще не все прочитал.
– Так
дайте мне портфель! Это самый важный документ. Норбергова злополучная записка
положила начало роковому недоразумению, пускай же другая, писанная его рукой,
распутает узел, пока нить еще не порвана окончательно.
Она
достала листок из портфеля, и Вильгельм узнал ненавистную руку, однако овладел
собой и прочитал:
«Объясни
мне, детка, каким манером ты так околдовала меня. Никогда не думал, чтобы даже
богиня ухитрилась обратить меня в томного воздыхателя. А ты нет того, чтобы
бросаться навстречу с распростертыми объятиями, ты еще отталкиваешь меня; право
же, по твоему поведению может показаться, что я тебе постыл. Где это видано,
чтобы мне пришлось провести ночь в каморке на сундуке со старухой Барбарой? А
моя милашка была всего лишь за двумя дверьми. Это уж совсем из рук вон, скажу я
тебе! Я обещал дать тебе время на размышление, обуздать себя, а теперь
взбеситься готов из-за каждой потерянной четверти часа. Чем только я не
задаривал тебя! Неужто ты еще сомневаешься в моей любви? Чего тебе хочется?
Скажи слово, тебе ни в чем не будет отказу. Чтоб поп, который вбил тебе в
голову всю Эту чушь, онемел и ослеп на месте! И напала же ты на такого! Когда
столько найдется других, имеющих снисхождение к молодежи. Так или иначе, говорю
тебе, переменись и дай мне ответ в ближайшие дни – мне ведь нужно скоро опять
уехать, и ежели ты не будешь опять мила и покладиста, ты меня больше не
увидишь…»
В этом
роде было все пространное письмо; к мучительному удовлетворению Вильгельма, оно
без конца возвращалось к одному и тому же предмету, свидетельствуя о
правдивости старухиного рассказа. Второе письмо ясно подтверждало, что Мариана
не уступила и в дальнейшем, а Вильгельм из этих и других писаний с глубокой
скорбью узнал всю историю несчастной девушки вплоть до смертного ее часа.
Старуха
мало-помалу усмирила того мужлана, сообщив ему о смерти бедняжки и поддержав в
нем уверенность, будто Феликс его сын; он несколько раз посылал ей деньги,
которые она оставляла себе, навязав Аврелии попечение о ребенке. На беду, эта
тайная пожива скоро кончилась. Норберг вел беспутную жизнь и промотал львиную
долю своего состояния, а частые любовные связи остудили его чувство к мнимому
первенцу.
Хотя все
это звучало вполне правдоподобно и до точности сходилось между собой, Вильгельм
еще не решался предаться радости, словно страшась взять подарок из рук злого
гения.
– Вашу
недоверчивость может излечить только время, – » сказала старуха, угадав
его душевное состояние. – Считайте ребенка чужим и тем пристальнее
приглядывайтесь к нему, изучайте его склонности, его характер, его способности,
и ежели вы постепенно не будете узнавать самого себя, значит, у вас плохое
зрение. Послушайте меня, будь я мужчиной, никому не удалось бы подсунуть мне
чужого ребенка; но, к счастью для нас, женщин, у мужчин в таких случаях менее зоркий
глаз.
После
всех этих толков Вильгельм договорился со старухой, что Феликса он возьмет к себе,
а она отвезет Миньону к Терезе, после чего может жить, где заблагорассудится на
небольшую пенсию, которую он ей обещал.
Он велел
позвать Миньону, чтобы приготовить ее к предстоящей перемене.
– Мейстер! –
взмолилась она. – Оставь меня при себе на радость и на горе.
Он
убеждал ее, что она уже не маленькая и надо заняться ее дальнейшим
образованием.
– Ни
так довольно образованна, чтобы жить и горевать, – возразила она.
Он
напомнил ей, что она слаба здоровьем и нуждается в постоянной заботе, в
наблюдении сведущего врача.
– Зачем
заботиться обо мне, когда и без того забот не оберешься, – говорила она.
Сколько
он ни бился, стараясь доказать ей, что покамест не может взять ее к себе, что
отвезет ее к людям, у которых часто будет видеться с ней, она пропускала мимо
ушей все его доводы.
– Ты
не хочешь взять меня к себе? – твердила она. – Тогда уж лучше отправь
меня к старому арфисту! Бедный старик так одинок!
Вильгельм
старался ей втолковать, что старику живется хорошо.
– Я
постоянно тоскую по нем, – сказала девочка.
– А
пока он жил с нами, я не замечал, что ты так привязана к нему, – возразил
Вильгельм.
– Я
боялась его, когда он не спал. Мне было страшно видеть его глаза; зато когда он
засыпал, я любила садиться около него, отгоняла мух и не могла на него
наглядеться. О, он помог мне в страшные минуты! Никто не знает, как я ему
обязана. Знай я дорогу, я сейчас же побежала бы к нему.
Вильгельм
пространно объяснил ей все обстоятельства, заключив словами: она девочка разумная,
значит, и на сей раз послушается его.
– Разум
жесток, сердце добрее! – воскликнула она. – Я пойду, куда ты
захочешь. Только оставь мне твоего Феликса!
После
долгих уговоров и споров она настояла на своем, и Вильгельм в конце концов решился
поручить обоих детей старухе и вместе с ней отправить их к фрейлейн Терезе. Так
ему самому было легче, ибо он все еще боялся по-отцовски привязаться к
прелестному малышу. Он взял его на руки и принялся носить по комнате; мальчику
хотелось дотянуться до зеркала, и Вильгельм, подняв его, стал безотчетно искать
сходства между собой и мальчиком. На миг ему показалось, что сходство есть, и
он крепко прижал ребенка к своей груди, но тут же, испугавшись, что это
самообман, поставил его на пол и отпустил побегать.
– Ах, –
вздохнул он, – если бы я признал это бесценное сокровище своим, а потом
его отняли бы у меня, я был бы самый несчастный человек на свете.
Дети
уехали, и Вильгельм вознамерился распроститься с театром по всей форме, почувствовав,
что внутренне уже простился с ним и теперь остается только уйти. Марианы не
стало, два его ангела-хранителя удалились, и он мыслями стремился им вслед.
Прелестный мальчик чарующим смутным видением витал перед его мысленным взором,
ему представлялось, как малыш, держась за руку Терезы, бегает по лесам и полям,
как развивается телом и духом на вольном воздухе под надзором вольнолюбивой и
веселой спутницы.
Он еще
больше стал ценить Терезу с тех пор, как воображал себе ребенка в ее обществе.
Даже сидя в театре как зритель, он улыбался, вспоминая ее; он почти дошел до ее
умонастроения, – спектакль не создавал ему больше ни малейшей иллюзии.
Зерло и
Мелина держали себя с ним весьма учтиво с тех пор, как поняли, что он не притязает
на свое прежнее место. Часть публики желала увидеть его на сцене; для него это
было бы теперь немыслимо, да и среди актеров этого не желал никто, если не
считать мадам Мелина.
Прощаясь
с этой своей приятельницей, он расчувствовался и сказал:
«– Зачем
человек дерзает что-то сулить на будущее, а сам и малого осуществить не в
силах, не говоря уже о значительных замыслах? Как мне стыдно вспомнить, чего
только я не наобещал всем вам в ту злосчастную ночь, когда мы, ограбленные,
больные, изобиженные, израненные, теснились в убогом заезжем дворе. Мужество
мое удвоилось от несчастья, и я открыл в себе целый клад благих намерений. Но
из всего этого ничего, ровно ничего не получилось! Покидая вас, я чувствую себя
вашим должником, и счастье мое, что никто не придал большой цены моему обещанию
и ни разу не напомнил мне о нем.
– Не
возводите на себя напраслины, – возразила мадам Мелина. – Пускай
другие не желают признавать, как много вы сделали для нас, – я-то вполне
сознаю это. Наше положение было бы совсем иным, если бы вы не оказались с нами.
Наши намерения подобны нашим желаниям: стоит их осуществить, стоит им сбыться,
как они перестают быть похожи на себя и нам кажется, что мы ничего не сделали,
ничего не достигли.
– Своими
дружескими уговорами вам не успокоить мою совесть, я знаю, что навеки остаюсь
вашим должником, – заявил Вильгельм.
– Пожалуй,
это верно, – признала мадам Мелина, – только не в том смысле, как вы
полагаете. Мы считаем для себя позором не исполнить обещания, высказанного
нашими устами. Друг мой, хороший человек одним своим присутствием обещает
слишком много. Он вызывает доверие, он внушает симпатию, он пробуждает надежды,
и все эти чувства не имеют предела, а он, сам того не ведая, становится и
остается должником. Прощайте! Если наши внешние обстоятельства сложились столь
счастливо под вашим руководством, то во внутреннем моем мире разлука с вами
оставит пустоту, которую не так легко будет заполнить.
Перед
отъездом из города Вильгельм написал пространное послание Вернеру. Правда, они
за это время обменялись несколькими письмами, но, не придя к согласию, в конце
концов прекратили переписку. Теперь же Вильгельм сделал шаг к сближению – он
решился на то, чего так домогался Вернер; он мог сказать: «Я покидаю театр и
завожу связи с людьми, чье общество должно во всех смыслах поощрить меня к
положительной и благонадежной деятельности». Далее он спрашивал о своем
состоянии и сам теперь удивлялся, что столько времени даже не думал о нем. Он
не знал, что людям, сугубо озабоченным внутренним своим развитием, свойственно
неглижировать внешними делами. В таком именно положении был Вильгельм; ему, как
видно, впервые пришло в голову, что для солидной деятельности не обойтись без
обеспечения извне. Он уезжал совсем с иными помыслами, чем в первый раз; перед
ним открывались заманчивые виды на будущее, и он надеялся встретить немало
радостного на своем пути.
|


