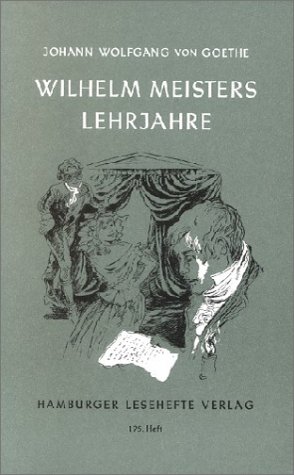
 Увеличить Увеличить |
ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ
Тихий
зов милого сердцу ангела-хранителя, вместо того чтобы вывести нашего друга па
твердую стезю, лишь питал и умножал прежнюю его тревогу, затаенный огонь
разливался по жилам; светлые и смутные образы перемежались в его душе,
возбуждая неутолимую страсть. Он мечтал то о коне, то о крыльях, не мыслил себе
оставаться здесь и не мог бы определить, куда, собственно, стремится.
Нити его
судьбы так удивительно сплелись; он жаждал распутать или разрезать этот непонятный
узел. Часто, услышав топот копыт или громыхание колес, он спешил к окну в
чаянии увидеть, не приехал ли кто навестить его и не привез ли, пускай хоть
случаем, весть, уверенность, радость. Он тешил себя сказками, будто в здешние
края пожаловал друг его Вернер с неожиданным известием о возможном появлении
Марнаны. Его волновал звук каждого почтового рожка. Должен же был Мелина
сообщить о своем устройстве, а глав* ное, должен был вернуться егерь с
приглашением обожаемой красавицы.
1
Перевод Б. Пастернака.
К
несчастью, ничего такого не происходило, и вновь он оставался наедине с собой;
и когда он вновь перебирал в уме прошедшее, чем долее он обсуждал и всесторонне
освещал одно обстоятельство, тем противнее и несноснее становилось оно. Это
было его незадачливое верховенство, о котором он не мог вспомнить без горечи.
Хотя он сразу же вечером того злосчастного дня обелил себя перед труппой, но
сам не находил себе оправдания. Наоборот, в минуты уныния он приписывал себе
всю вину целиком.
Себялюбие
придает значительности не только нашим добродетелям, но и нашим порокам. Он
пробудил доверие к себе, он управлял волей других и, руководимый неопытностью и
смелостью, пошел впереди всех, но вот они столкнулись с угрозой не по силам.
Громогласные и молчаливые укоры неотступно преследовали его, а после того, как
он обещал потерпевшей от чувствительных утрат труппе не покидать ее, доколе с
лихвой не возместит ей понесенные убытки, ему приходилось корить себя за новое
удальство, за то, что он дерзнул взвалить на свои плечи беду, свалившуюся на
всех. Случалось, он упрекал себя в том, что, уступив накалу страстей и
требованию минуты, дал такое обещание; а случалось, он чувствовал, что
протянутая им от чистого сердца рука, которую никто не удостоил взять, была
лишь мелкой формальностью по сравнению с клятвой, в которую он вложил душу. Он
обдумывал способы оказать актерам помощь, принести пользу и находил веские
причины ускорить поездку к Зерло. Итак, он сложил свои пожитки и, не дожидаясь
полного выздоровления, не слушаясь советов ни священника, ни хирурга, в
странной компании Миньоны и старика поторопился бежать от бездействия, в котором
его снова и слишком долго томила судьба.
ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ
Зерло
встретил его с распростертыми объятиями, восклицая:
– Вас
ли я вижу? Не ошибаюсь ли? Нет, вы мало или совсем не изменились. А ваша любовь
к благороднейшему из искусств по-прежнему жива и сильна? Я так рад вашему
приезду, что даже забыл о недоверии, которое пробудили во мне последние ваши
письма.
Вильгельм
в недоумении попросил объясниться подробнее.
– Вы
поступили со мной не так, как положено старому другу, – отвечал Зерло – вы
обратились ко мне, точно к важной персоне, которой можно без зазрения совести
навязать никуда не годных людей. Участь наша зависит от мнения публики, а
навряд ли ваш господин Мелина и его присные встретят у нас хороший прием.
Вильгельм
попытался было вступиться за них, но Зерло перебил его, дав такую беспощадную
аттестацию, что друг наш только обрадовался, когда разговор был прерван
вошедшей в комнату женщиной, которую друг отрекомендовал ему как свою сестру
Аврелию. Она приняла его самым дружелюбным образом, а беседа ее оказалась столь
приятной, что он даже не приметил явственную печать скорби, придававшую особую
значительность ее умному лицу.
Впервые
за долгое время Вильгельм вновь почувствовал себя в своей стихии. Находя себе
обычно в разговоре разве что снисходительных слушателей, теперь он был счастлив
беседе с художниками и знатоками, которые не только вполне его понимали, но и
давали ему назидательные ответы. С какой быстротой произвели они обзор новейших
пьес! Как точно судили о них! Как умели взвесить и оценить суждение публики! С
какой быстротой подхватывали мысль друг друга!
При
сугубом пристрастии Вильгельма к Шекспиру разговор, естественно, перешел на
этого писателя. Высказав живейшую надежду, что превосходные шекспировские пьесы
составят эпоху в Германии, наш друг не замедлил заговорить о своем любимом
«Гамлете», столь сильно занимавшем его воображение.
Зерло
стал уверять, что, явись такая возможность, он давно поставил бы эту пьесу и
сам охотно сыграл бы роль Полония. И с улыбкой присовокупил:
– В
Офелиях недостатка не будет, лишь бы нам раздобыть самого принца.
Вильгельм
не заметил, что Аврелии не понравилась шутка брата, и по своей привычке пустился
в пространные поучения, как, он считает, надо играть Гамлета. Он подробно
изложил им те свои выводы, о которых мы говорили выше, и всячески отстаивал
свои взгляды, сколько бы сомнений ни выдвигал Зерло против его гипотезы.
– Ну,
хорошо, – сказал тот под конец, – допустим, мы во всем согласились с
вами; что, по-вашему, отсюда вытекает?
– Многое,
всё! – заявил Вильгельм. – Представьте себе принца, каким я изобразил
его. У него внезапно умирает отец. Честолюбие и властолюбие – страсти, ему не
присущие; он мирился с тем, что он – сын короля; но лишь теперь вынужден он
вглядеться в расстояние, отделяющее государя от подданного. Право на корону не
было наследственным, и все же, проживи отец дольше, притязания его
единственного сына стали бы прочнее и надежды на корону несомненнее. Теперь же,
по воле дяди, невзирая па мнимые посулы, он сидит, что отстранен от власти,
быть может, навсегда; он чувствует, что обездолен и благами и богатствами и
отчужден от того, что с малых лет мог считать своей собственностью. Это дает
первый толчок к безотрадному направлению его мыслей. Он чувствует, что значит
не больше, а то даже и меньше любого дворянина; он выставляет себя слугой
каждого, он не учтив и не снисходителен, нет, он унижен, он поневоле смотрит на
людей не сверху вниз, а снизу вверх.
Прежнее
его состояние представляется ему исчезнувшим сном. Напрасно дядя пытается его
ободрить, изобразить его положение в ином свете; чувство своего ничтожества ни
на миг не покидает его.
Второй
удар, нанесенный ему, который поразил его глубже, сокрушил сильнее, было замужество
матери. После кончины отца у него, преданного и нежного сына, оставалась мать;
он думал вместе с вдовствующей королевой-матерью чтить героический образ
великого усопшего; но вот он потерял и мать, и такая утрата хуже, чем смерть. Исчезло
положительное представление благонравного дитяти о своих родителях; у мертвого
тщетно искать помощи, а у живой – опоры. Она – женщина, и общее для ее пола имя
– вероломство – относится и к ней.[37]
Лишь
теперь он сокрушен по-настоящему, лишь теперь по-настоящему осиротел, и никакое
счастье в мире не заменит ему того, что он потерял. Он не рожден печальным и
задумчивым, а потому печаль и раздумье для него – тяжелое бремя. Таким он
появляется перед нами. Мне кажется, я ничего не примыслил, не преувеличил ни
одной черты.
Взглянув
на сестру, Зерло спросил:
– Скажешь,
я неверно обрисовал тебе нашего друга? Начало положено неплохо, а дальше он еще
и не то нам порасскажет и в чем только нас не уговорит.
Вильгельм
клялся и божился, что хочет не уговорить, а убедить, и попросил еще минуту
терпения.
– Постарайтесь
поживее вообразить себе этого юношу, этого королевского сына, – воскликнул
он, – вдумайтесь в его положение, а затем посмотрите на него в тот миг,
когда он узнает о появлении отцовского призрака; будьте с ним в ту страшную
ночь, когда высокородный дух сам является ему. Невообразимый ужас охватывает
его. Он обращает свою речь к удивительному видению и, повинуясь его знаку,
следует за ним, слышит его слова – в ушах звучит страшное обвинение против
дяди, призыв к мести и настойчивая многократная просьба: «Помни обо мне!»
А после
исчезновения призрака кого мы видим перед собой? Пышущего местью юного героя?
Прирожденного государя, для которого счастье, что он призван покарать
узурпатора? Нет! Оставшись один, потрясенный и удрученный, он обрушивает свой
гнев на подлецов с низкой ухмылкой, клянется не забывать усопшего и заключает
глубокомысленным вздохом:
«Разлажен жизни ход, и в этот ад
Закинут я, чтоб все пошло на лад!»[38]
Эти
слова, на мой взгляд, дают ключ ко всему поведению Гамлета, и мне ясно, что
хотел показать Шекспир: великое деяние, тяготеющее над душой, которой такое
деяние не по силам. Вот, по моему разумению, идея, проходящая через всю пьесу.
Здесь дуб посажен в драгоценный сосуд, которому назначено было лелеять в своем
лоне только нежные цветы; корни растут и разрушают сосуд.
Прекрасное,
чистое, благородное, высоконравственное создание, лишенное силы чувств, без
коей не бывает героев, гибнет под бременем, которое ни нести, ни сбросить ему
не дано; всякий долг для него свят, а этот тяжел не в меру. От пего требуют
невозможного, не такого, что невозможно вообще, а только лишь для него. Как ни
извивается, ни мечется он, идет вперед и отступает в испуге, выслушивает
напоминания и постоянно вспоминает сам, под конец почти теряет из виду
поставленную цель, но уже никогда больше не обретает радости.
|


