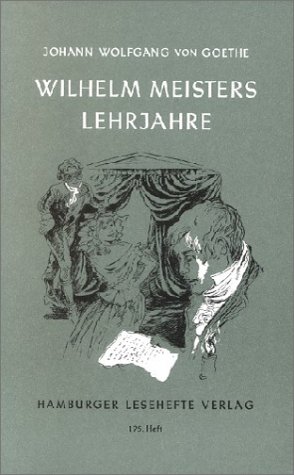
 Увеличить Увеличить |
ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ
Ни в
театре, ни среди публики исчезновение Филины не произвело особой сенсации. Сама
она ни к чему не относилась всерьез; женщины все без изъятия терпеть ее не
могли, а мужчины предпочитали видеть ее с глазу на глаз, чем на сцене; таким
образом, ее прекрасное, поистине ценное артистическое дарование пропадало зря.
Тем больше старались остальные; особенным усердием и вниманием отличалась мадам
Мелина; как и прежде, она перенимала все взгляды Вильгельма, следовала его
принципам, его примеру и с некоторых пор приобрела своеобразную
привлекательность. В короткий срок научилась она играть по всем правилам, в
совершенстве усвоила естественный разговорный тон и даже – отчасти – тон
эмоциональный. Она умела приноровиться к причудам Зерло, ему в угоду занялась
пением, в котором преуспела достаточно для развлечения общества.
Труппа
пополнилась несколькими вновь прибывшими актерами, и меж тем, как Вильгельм и
Зерло действовали каждый в своей области, – первый в любой пьесе старался
уловить смысл и тон целого, а второй добросовестно разрабатывал отдельные
части, – актеры, в свой черед, были одушевлены похвальным рвением, за что
публика горячо одобряла их.
– Мы
на верном пути, – сказал однажды Зерло, – и ежели будем продолжать в
том же духе, то и публику скоро наставим на путь истинный. Нелепым и неумелым
истолкованием очень легко сбить людей с толку; а преподнеси им ра-' зумное и
достойное в увлекательной форме, они непременно потянутся к нему.
Главный
недостаток нашего театра, не сознаваемый ни актерами, нн публикой, заключается
в царящей там неразберихе, в отсутствии того предела, на который можно
опереться в своем суждении. Я не вижу прока в том, что мы расширили наши
подмостки до некой неограниченной естественной арены; но сузить для себя ее
пределы теперь уже не могут ни режиссер, пи актер; быть может, со временем вкус
нации укажет правильные границы. Хорошее общество, а также хороший театр
существуют лишь в определенных условиях. Есть манеры и выражения, есть темы и
поведение, которым не должно быть места. Люди не становятся бедными, когда
умеряют свою расточительность.
Кое в
чем они были здесь согласны, а кое в чем и не согласны между собой. Вильгельм и
большая часть актеров были сторонниками английского театра, а Зерло и другие –
французского.
Единогласно
было решено в свободные часы, коих у актеров, к сожалению, слишком много,
совместно прочитать самые прославленные пьесы того и другого театра, отмечая
все лучшее и достойное подражания. Начало в самом деле было положено
несколькими французскими пьесами. Аврелия удалялась всякий раз, как приступали
к чтению. Поначалу Это приписывали недомоганию; но однажды Вильгельм, заметив
это, спросил ее о причине.
– Ни
на одном таком чтении я присутствовать не буДУ»- заявила она, – как могу я
что-то слушать и обсуждать, когда у меня сердце разрывается. Французский язык я
нена «вижу всей душой.
– Можно
ли враждебно относиться к тому языку, кото-» рому мы обязаны львиной долей
своего образования? – возмутился Вильгельм. – Да и впредь будем
обязаны многим, доколе не обретем собственного облика!
– Это
отнюдь не предвзятость! – возразила Аврелия.-. Тягостное впечатление,
ненавистное воспоминание о моем вероломном друге отбило у меня вкус к этому
прекрасному, до тонкости развитому языку. Как же глубоко я теперь ненавижу его!
В пору нашей близости друг мой писал мне по-немецки, и на каком же сердечном,
правдивом, сочном немецком языке! А как только ему захотелось избавиться от
меня, он начал писать по-французски, к чему прежде прибегал лишь изредка и в
шутку. Я почувствовала, я поняла, что это значит. То, чего на родном языке он
не высказал бы, не краснея, совесть позволяла ему спокойно написать
по-французски. Лучше не придумаешь языка для умолчаний, недомолвок и лжи! Это
язык коварный! Хвала создателю, в нашем языке не найдется слова, полностью
передающего французское perfide! Наше «неверный» – невинное дитя рядом о ним.
Perfide – это неверный со сладострастием, с задором и злорадством. Да, можно
позавидовать развитию нации, уме** ющей в одном слове дать столько тончайших
оттенков! Фран* цузскому очень пристало быть светским языком, ему следова* ло
бы стать языком всеобщим, чтобы все вволю могли друг друга обманывать и
дурачить. Французские его письма все еще приятно было читать. При должном
воображении они звучали нежно и даже страстно. Но на трезвый взгляд это были
фразы, ненавистные фразы! Из-за него для меня потеряли очарование и французский
язык, и французская литература, и даже прекрасные, бесценные чувства высоких
душ, выраженные на этом наречии; меня дрожь берет от каждого французского
слова!
В таком
роде она могла разглагольствовать часами, изливая свой гнев, перебивая или расстраивая
всякую иную беседу. Рано или поздно Зерло умудрялся досадливым замечанием положить
конец ее вздорным выпадам; но обычно разговор бывал испорчен на весь вечер.
К
сожалению, так уж водится, что все, создаваемое совокупностью людей и
обстоятельств, не сохраняется на долгий срок в совершенном виде. Для
театральной труппы, как и для целого государства, для дружеского кружка, как и для
целой армии, обычно настает минута, когда они достигают высшей точки
совершенства, согласия, удовлетворения и деятельной энергии; но чаще всего
действующие лица быстро сменяются, на сцену выступают новые участники, люди уже
не согласуются с обстоятельствами, а обстоятельства не согласуются с людьми;
все становится иным, и что недавно было связано между собой, вскоре
распадается. Один период труппа Зерло добилась, пожалуй, такого совершенства,
каким не могли бы похвалиться все другие немецкие труппы. Большинство актеров
было на своем месте, все были достаточно заняты своим делом и охотно занимались
тем, что им полагалось делать. Личные отношения между ними были сносные, и
каждый, казалось, обещал преуспеть в своем искусстве, потому что на первых
порах работал с жаром и увлечением. Однако вскоре обнаружилось, что некоторые
из них просто автоматы, которые могут чего-то достичь лишь там, где не
требуется чувства, а скоро сюда примешались и страсти, встающие на пути всякого
хорошего начинания и с такой легкостью разоряющие то, что людям разумным и
благомыслящим хочется скрепить.
Уход
Филины оказался не столь уж незаметным, как представлялось вначале; с великим
искусством умела она развлечь Зерло и в большей или меньшей степени раззадорить
всех остальных. Вспыльчивость Аврелии она сносила с великим терпением, а особой
ее заботой было льстить Вильгельму. Таким образом, она была своего рода
связующим всех звеном, и отсутствие ее вскоре оказалось весьма чувствительным.
Зерло не
мог жить без интрижки. Эльмира, подросшая в короткий срок и, надо признать,
сгчень похорошевшая, давно уже привлекала его внимание, а у Филины хватало ума
поощрять это увлечение, как только она его подметила.
«Надо
заблаговременно переходить на сводничество, – говаривала она, – к
старости нам одно это и остается». Тем самым Зерло и Эльмира оказались
настолько близки, что вскоре после отъезда Филины не замедлили сойтись, и эта
интрижка развлекала обоих, тем более что у них были все основания держать ее в
тайне от старика, который не потерпел бы подобных вольностей. Сестра Эльмиры
была в заговоре, вследствие чего Зерло приходилось потворствовать обеим
девушкам. Одним из их крупнейших пороков была непомерная страсть к
лакомствам, – проще говоря, непозволительное обжорство, в чем они никак не
походили на Филину, которая от сравнения только выигрывала в привлекательности,
потому что она-то, можно сказать, питалась одним воздухом, очень мало ела и
лишь на грациознейший манер слизывала пену с бокала шампанского.
А теперь
Зерло, в УГ°ДУ своим красоткам, должен был соединять фриштык с обедом, а то
даже и с ужином. Кроме того, Зерло лелеял прожект, выполнением коего очень был
озабочен. Ему казалось, что оп подметил склонность между Вильгельмом и
Аврелией, он очень яселал, чтобы она обратилась в серьезное чувство. Он
рассчитывал взвалить тогда на Вильгельма всю техническую часть театрального
хозяйства и обрести в нем, как в первом своем зяте, надежного и усердного
исполнителя. Пока что он незаметно успел передать ему большую часть хлопот.
Аврелия ведала кассой, а Зерло, как в прежние времена, устроил себе жизнь по
своему вкусу. Но было нечто, втайне уязвлявшее и его самого, и его сестру.
Публика
своеобразно относится к известным личностям с признанными заслугами; она мало-помалу
начинает охладевать к ним и переносит свое благоволение на новоявленные дарования
куда меньшего размаха, к первым она предъявляет непомерные требования, а у
последних приемлет все.
У Зерло
и Аврелии не было недостатка в такого рода наблюдениях. Все внимание, весь
успех обратились на вновь прибывших актеров, особливо молодых и авантажных, а
брату и сестре, невзирая на все усердие и старание, зачастую приходилось
покидать сцену, не слыша столь желанного шума рукоплесканий. Правда, к тому
были еще и особые причины. Гордыня Аврелии всем бросалась в глаза, и многие
были наслышаны об ее презрении к публике. Зерло же умел польстить каждому в
отдельности, но его язвительные отзывы о публике в целом неоднократно
передавались из уст в уста. А из новых участников труппы одни были люди чужие и
неизвестные, другие были молоды, ласкательны и нуждались в поддержке; потому
все они нашли себе покровителей.
Вскоре к
тому же начались внутренние неурядицы и обиды; едва только обнаружилось, что
Вильгельм взял на себя обязанности режиссера, как многие актеры стали проявлять
тем большую строптивость, чем настойчивее старался он, по своему обычаю, внести
в дело порядок и точность и особо требовал, чтобы с технической стороны не было
срывов и неполадок.
За
короткий срок все отношения, бывшие некоторое время поистине идеальными, докатились
до уровня самой последней бродячей труппы. К несчастью, как раз когда
прилежными трудами и большим напряжением сил Вильгельм вполне усвоил себе
требования актерской профессии, отдавшись ей всем своим существом и занимаясь
только ею, ему в часы уныния стало казаться, что это ремесло менее всякого
другого достойно такой затраты времени и сил. Работа докучна, а оплата
ничтожна. Куда охотнее занялся бы он любым другим делом, окончив которое можно
отдыхать со спокойной душой, тогда как здесь, преодолев технические трудности,
достигаешь цели своих стараний лишь путем величайшего душевного и умственного
напряжения. Ему приходилось выслушивать сетования Аврелиина расточительность
брата и пропускать мимо ушей намеки Зерло, когда тот пытался издалека навести
его на мысль о браке с сестрой. Притом ему надо было скрывать собственную свою
печаль, угнетавшую его с тех пор, как гонец, посланный вслед сомнительному
офицеру, не вернулся сам и не подавал о себе вести. Друг наш страшился, что
вторично утратил свою Мариану.
Именно в
это время по случаю всеобщего траура театр пришлось закрыть на несколько
недель. Вильгельм воспользовался простоем, чтобы посетить священника, на
попечении которого находился арфист. Местность оказалась приятная, а первый,
кого увидел Вильгельм на церковном дворе, был старик, обучавший какого-то
мальчугана игре на своем инструменте. Он очень обрадовался при виде Вильгельма,
поднялся, протянул ему руку и сказал:
– Видите,
я еще чем-то могу быть полезен на свете; дозвольте мне продолжать, время мое
распределено по часам.
Священник
весьма приветливо встретил Вильгельма и рассказал, что здоровье старика
налаживается и есть надежда на полное его исцеление.
В беседе
речь, естественно, зашла о способе пользования помешанных.
– Помимо
физической стороны, – начал священник, – которая зачастую ставит
перед нами непреодолимые препятствия, так что мне приходится прибегать к помощи
вдумчивого врача, средства исцеления помешательства, на мой взгляд, весьма
просты. Это те же самые средства, коими здоровым людям не дают сойти с ума.
Надо побуждать их к самостоятельной деятельности, приучать к порядку, внушать
им, что их бытие и судьба подобны судьбам многих других людей, что яркая
одаренность, величайшее счастье и величайшее несчастье – лишь малые отклонения
от нормы, – и тогда никакое безумие не найдет себе лазейки, а если оно уже
зародилось, то мало-помалу исчезнет. Я распределил время старика по часам; он
обучает нескольких ребят игре на арфе, помогает в садовых работах и уже заметно
повеселел. Ему хочется поесть капусты, посаженной им самим, а так как он
завещал арфу моему сыну, ему хочется как можно лучше выучить моего сына игре на
арфе, чтобы она пригодилась мальчику. Как духовный наставник я не старался
особенно вмешиваться в его непонятные душевные терзания, сама по себе
деятельная жизнь влечет за собой множество событий, и он не замедлит
почувствовать, что работа – лучшее лекарство против всякого рода сомнений. Я
действую с осторожностью; а когда мне вдобавок удастся упразднить его бороду и
хламиду, я сочту, что добился многого; ибо ничто так не приближает нас к
безумию, как старание выделиться среди всех; и ничем мы так не сохраняем здравый
смысл, как общностью с большинством окружающих людей. К несчастью, в нашем воспитании,
в наших гражданских установлениях много такого, чем мы приуготовляем себя и
своих детей к сумасшествию!
Вильгельм
пробыл у этого рассудительного человека несколько дней и наслушался презанимательных
рассказов не только о свихнувшихся людях, но и о таких, которые слывут умными и
даже мудрыми, однако по чрезмерной своеобычности недалеки от безумия.
Беседа
оживилась втройне, когда явился лекарь, частенько навещавший своего друга священника
и помогавший ему в человеколюбивых трудах. Это был пожилой мужчина, невзирая на
слабое здоровье много лет отдавший своим благороднейшим обязанностям. Он был
горячий сторонник сельской жизни и почти не мог жить иначе как на свежем
воздухе; притом он был весьма общителен, деятелей и с давних пор имел особую
склонность заводить дружбу с сельскими священниками. Всеми силами старался он
содействовать тем, кто занимался полезным делом; другим, еще не нашедшим своего
призвания, он старался придумать занятие по вкусу; а имея общение с
дворянством, с чиновным и судейским сословием, он за двадцать лет успел без
огласки немало поспособствовать развитию целого ряда отраслей сельского
хозяйства, помогая процветанию всего, что пользительно для пашен, животных и
людей, и тем насаждая подлинное просвещение.
– Хуже
нет для человека, – говаривал он, – ежели в голове у него засядет
идея, не приобщающая его к деятельной жизни или, чего доброго, отвлекающая от
оной. У меня в настоящее время перед глазами пример знатной и богатой
супружеской четы, где все мое искусство до сей поры было бессильно; да,
пожалуй, случай этот больше по вашей части, милейший пастор, а молодой человек,
конечно, не станет его разглашать.
В
отсутствие некоего вельможи приближенные его ради малопохвальной шутки нарядили
одного молодого человека в домашнее платье хозяина, дабы ввести, в заблуждение
его супругу. Хотя мне и представили это как безобидный фарс, я опасаюсь, что
тут имелось намерение совратить благородную и любезную даму с пути истинного.
Внезапно
возвращается супруг, входит к себе в спальню, воображает, что увидел самого
себя, и с той минуты впадает в меланхолию, убедив себя, что скоро умрет.
Он
попадает под влияние лиц, которые пичкают его религиозными идеями, и я теряюсь,
не зная, как уговорить его, чтобы он вместе с супругой не вступал в общину
гернгутеров и, не имея детей, не лишал своих родных большей части наследства.
– Вместе
с супругой? – ‹яе удержавшись, выкрикнул Вильгельм.
– Вся
беда в том, что дама эта удручена еще более тяжким горем и отнюдь не противится
удалению от света, – объяснил врач, приняв возглас Вильгельма за выражение
челове-» колюбивого участия. – Когда тот же молодой человек про-» щался с
ней, у нее недостало осторожности скрыть зарождающееся чувство. Он, осмелев,
заключил ее в объятия и при Этом вдавил ей в грудь осыпанный бриллиантами
портрет ее супруга. Она ощутила сильную боль, которая постепенно утихла, только
оставила легкую красноту, которая тоже про-» шла бесследно. Как человек я
уверен, что ей больше не в чем себя упрекнуть, а как врач не сомневаюсь, что
это по* вреждение не будет иметь дурных последствий, однако ее не убедишь, что
там нет затвердения, а когда ощупыванием стараешься побороть ее мнительность,
она твердит, что хотя сейчас там ничего не заметно, но она уверена, что
кончится Это раковой язвой, а значит, ее молодость и прелесть погибли и для нее
самой, и для других.
– Злосчастный
я человек! – вскричал Вильгельм, схватившись за голову, и Оросился от
своих собеседников в поле. Никогда в жизни не испытывал он ничего подобного.
Врачу и
священнику, пораженным таким неожиданным открытием, пришлось немало с ним
повозиться, когда ои вернулся ввечеру и подробно рассказал о происшедшем,
горько себя укоряя. Оба приняли в нем живое участие, особливо после того, как
он, под воздействием минуты, мрачнейшими красками обрисовал им теперешнее свое
состояние.
На
другой день врач без дальних просьб отправился с ним в город, дабы ободрить его
и по мере возможности оказать помощь Аврелии, которую друг ее оставил в
критическом положении.
Здоровье
ее оказалось еще хуже, чем они ожидали. У нее объявилось нечто вроде перемежающейся
лихорадки, которая тем меньше поддавалась лечению, что больная, в силу своего характера,
умышленно поддерживала и усугубляла пароксизмы.
Незнакомец
был введен к ней не как врач и держал себя очень ласково и тактично. Когда речь
зашла о состоянии ее тела и духа, новый друг привел немало случаев, когда люди,
столь же слабые здоровьем, доживали до преклонных лет; однако тут вреднее всего
умышленно ворошить тягостные переживания. Он не стал скрывать, что считает
счастливым удел тех, чье болезненное состояние, правда, не поддается полному
излечению, но кто при этом исполнен истинно религиозных чувств. Он говорил об
этом не назойливо, скорее в повествовательном духе, и пообещал новым друзьям
дать «для прочтения интересный манускрипт, полученный им из рук ныне покойной
замечательной женщины, его приятельницы.
– Рукопись
эта бесконечно мне дорога, – сказал он, – я я вверяю вам ее
подлинник. Только заглавие написано моей рукой: «Признания прекрасной души».[52]
На
прощание врач преподал Вильгельму ценный совет касательно диетического и медицинского
пользования потерявшей себя от горя Аврелии, обещал писать и, если представится
возможность, приехать еще раз.
Между
тем в отсутствие Вильгельма наметились перемены, которых он никак не ожидал. В
бытность свою режиссером он вел дело независимо и с размахом, во главу угла
ставил самую суть, не скупился па приобретение богатых и добротных костюмов,
декораций и реквизита, а также потворствовал своекорыстыо актеров, дабы
поддержать в них рвение, видя, сколь бессильны более возвышенные доводы; оп
считал, что вправе поступать так, ибо сам Зерло не притязал на роль
расчетливого хозяина, охотно слушал, как восхваляют великолепие его театра, и
был доволен, когда Аврелия, заправлявшая всем хозяйством, заявляла, что, за
вычетом Есех расходов, долгов у нее нет, и даже давала брату сколько надобно,
чтобы погасить те долги, в которые он входил через расточительные траты на
своих красоток и еще невесть какие расходы.
Ведавший
гардеробом Мелина исподтишка, с присущим ему холодным коварством наблюдал, как
идет дело, когда же Вильгельм отлучился, а болезнь Аврелии усилилась, не
преминул ввернуть Зерло, что нехудо бы побольше зарабатывать, меньше
расходовать и либо кое-что прикапливать, либо при; келаиии жить еще веселее.
Зерло благосклонно выслушал его, тогда Мелина отважился выдвинуть свой прожект.
– Я
не хочу утверждать, – начал он, – что некоторые актеры получают
сейчас слишком большое жалованье: это люди весьма достойные, они повсюду были
бы приняты с распростертыми объятиями; однако же по тому доходу, который они
нам дают, получают они слишком много. Я предложил бы перейти на оперу, а что
касается драмы, скажу вам напрямик – такой человек, как вы, стоит целой труппы.
И неужто вам самому теперь не видно, что ваши заслуги недооцениваются. Не
потому, что партнеры у вас такие уж выдающиеся, а потому, что они попросту
хорошие, вашему замечательному таланту более не отдается должного. Возьмите,
как прежде, все дело в свои руки, подыщите себе посредственных, осмелюсь даже
сказать, плохих актеров за малую мзду, подтяните их в техническом смысле, что
вы превосходно умеете делать, а главные усилия обратите на оперу, и вы увидите,
что с той же затратой труда и средств добьетесь большего успеха у публики и не
в пример более внушительных барышей, нежели сейчас.
Зерло
был настолько польщен, что возражения его никак пе могли звучать убедительно.
Оп не
утаил от Мелины, что, будучи любителем музыки, давно мечтал о чем-то подобном,
однако ему ясно, что публика тогда совсем уж запутается в своих пристрастиях и
при таком смешанном театре, не та оперном, не то драматическом, неизбежно
утратит последние понятия о настоящем и полноценном произведении искусства.
Мелина
грубовато поострил над Вильгельмовыми педантическими возражениями такого рода,
над его притязаниями вести за собой публику, а не идти у нее на поводу, и оба
единодушно согласились между собой, что надобно лишь загребать деньги, богатеть
или весело жить, и не стали скрывать друг от друга, что только мечтают
избавиться от людей, препятствующих исполнению их намерений. Мелина сокрушался,
что по слабости здоровья Аврелия вряд ли долго протянет, на самом же деле лишь
радовался этому. Зерло на словах жалел, что из Вильгельма не выйдет певца,
давая этим понять, что вскорости он окажется лишним. Мелина представил целый
реестр расходов, которые можно сократить, и Зерло убедился, что в его лице
получит достойную замену своему первому зятю.
Оба,
конечно, почувствовали, что должны сохранить свой разговор в тайне, и тем еще
крепче связали себя друг с другом; теперь они постоянно искали случая наедине
обсуждать все события, порицать все затеи Аврелии и Вильгельма и мысленно
совершенствовали свой прожект.
Как ни
умалчивали они о своих намерениях, как ни боялись выдать себя неосторожным
словом, у них недоставало политичности, чтобы всем поведением не обнаружить
своих замыслов. В целом ряде случаев, входивших в его сферу, Мелина резко
восставал против Вильгельма, Зерло же, который никогда особо не миндальничал с
сестрой, теперь обращался с ней все грубее по мере того, как усиливалась ее
болезнь, хотя вспышки и срывы в ее настроении, казалось бы, требовали сугубой
бережности.
Как раз
в эту пору решено было поставить «Эмилию Галотти». Роли распределились очень
удачно, и всякий мог в узкой сфере этой трагедии блеснуть всем многообразием
своей игры. Зерло был вполне на месте в роли Маринелли, Одоардо был подан
превосходно, мадам Мелина очень проникновенно исполняла роль матери, Эльмира,
играя Эмилию, показала себя с наилучшей стороны. Лаэрт с большим достоинством
играл Аппиани, а Вильгельм потратил много месяцев на изучение роли принца. В
связи с этим он и про себя, и совместно с Зерло и Аврелией не раз решал вопрос,
есть ли разница в манере поведения между благородством и знатностью, непременно
ли благородство сопутствует знатности, а знатность благородству – нет.
Зерло,
изображавший Марииелли как царедворца в чистом виде, безо всякой карикатурности,
высказал по этому поводу немало ценных мыслей.
– Трудно
подражать достоинству человека знатного, – говорил он, – ибо оно негативно
как таковое и усвоено длительным навыком. В поведении своем никак нельзя
выставлять его напоказ, иначе можно впасть в подчеркнутую надменность; нужно
лишь избегать всего недостойного, вульгарного, не забываться ни на миг,
внимательно следить за собой и за другими, себе не прощать ничего, в отношениях
с другими соблюдать меру, не показывать ни умиления, ни волнения, никогда не
поступать непродуманно, в каждую данную минуту владеть собой и сохранять
внешнее равновесие, какая бы внутри ни бушевала буря. Благородный человек может
в иную минуту утратить над собой власть, знатный же – никогда. Его можно
уподобить разодетому щеголю, который и сам ни к чему не прислонится, и всякий
остережется его задеть; он отличен от других, однако обособляться ему нельзя –
в этом, как и в каждом искусстве, самое трудное должно выполняться с легкостью;
так, знатный человек при всей дистанции должен показывать свою общность с
другими, быть учтивым, а не чопорным, всюду быть первым лицом, но не навязывать
себя как таковое.
Отсюда
ясно, что казаться знатным может лишь тот, кто сам приобщен к знати; ясно
также, почему женщинам, как правило, это дается легче, нежели мужчинам, почему
придворные и военные скорее приобретают сановный вид.
Вильгельм
чуть не дошел до отчаяния от своей роли, однако Зерло и тут помог ему тонкими
замечаниями по отдельным деталям, добившись того, что на спектакле Вильгельм,
хотя бы в глазах толпы, явился отменнейшим принцем.
Зерло
обещал после спектакля сделать ему какие найдет нужным дополнительные замечания;
однако неприятный спор между братом и сестрой помешал всякому обсуждению.
Аврелия так сыграла роль Орсины, как, верно, не сыграет никто. Роль она знала
очень хорошо и на репетициях подходила к ней как-то безразлично; на спектакле
же она, можно ска-' зать, сорвала все препоны с личного своего горя и достигла
таких исполнительских высот, каких не измыслит ни один поэт в первом порыве
вдохновения. Безудержный восторг публики был наградой ее мучительным усилиям,
зато сама она почти без чувств лежала в кресле, когда к ней пришли после
представления.
Как
всегда в гневе, скрежеща зубами и топая ногами, Зерло уже высказал свое
негодование по поводу того, как можно было, по его мнению, до такой степени
пересаливать в игре и обнажать тайники своего сердца перед публикой, более или
менее осведомленной об ее пресловутой драме.
– Оставьте
ее! – потребовал он теперь, увидев, как лежащую в кресле сестру обступили
остальные актеры. – Скоро она выйдет на сцену совсем голой, и тогда
рукоплесканьям не будет удержу.
– Неблагодарный,
неумолимый изверг! – выкрикнула она. – Скоро меня нагой понесут туда,
где никакие рукоплескания не достигают нашего слуха!
С этими
словами она вскочила и бросилась к дверям. Служанка не успела подать ей плащ,
портшеза у выхода не оказалось. Прошел дождь, по улицам свистал пронизывающий
ветер. Тщетно удерживали ее, видя, как она разгорячена; она умышленно шла не
спеша и радовалась прохладе, жадно впивая холодный воздух. Домой она пришла
совсем охрипшая, почти не могла говорить, но не сознавалась, что в затылке и
вдоль спины чувствовала онемение.
Очень
скоро у нее почти полностью парализовался язык, так что она говорила не те
слова, какие хотела; ее уложили в постель; срочными мерами удалось остановить
один недуг, зато обнаружился другой. Она тряслась в лихорадке. Положение ее
было опасное.
Наутро
ей ненадолго полегчало. Она велела позвать Вильгельма и дала ему письмо.
– Это
послание давно уже ждет своего часа, – сказала она. – Я чувствую,
конец моей жизни близок. Обещайте мне, что вы сами вручите письмо и несколькими
словами отмстите изменщику за мои муки. Он не совсем бесчувствен, и моя смерть
хоть на миг причинит ему боль.
Вильгельм
взял письмо, стараясь вместе с тем утешить ее и отвлечь от мыслей о смерти.
– Нет,
не лишайте меня последнего упования! – возразила она. – Я долго ее
ждала и радостно приму ее в свои объятия.
Вскоре
пришла обещанная врачом рукопись. Аврелия попросила Вильгельма почитать ей
оттуда; о воздействии этого манускрипта читатель лучше всего может судить,
ознакомившись со следующей книгой. Пылкий и своевольный нрав нашей бедной
знакомицы как-то сразу смягчился. Письмо она взяла назад и написала другое,
по-видимому, в более миролюбивом духе; коль скоро известие о ее смерти
опечалило бы неверного друга, она заклинала Вильгельма утешить его и уверить в
том, что она его простила и желает ему всяческого счастья.
С этой
минуты она совсем затихла, казалось, всецело погрузившись в те немногие мысли,
которые старалась усвоить из манускрипта, заставляя Вильгельма время от времени
читать его вслух.
Силы ее
убывали неприметно, и, придя ее навестить однажды утром, Вильгельм неожиданно
застал ее мертвой.
Он питал
к ней такое уважение и так привык постоянно общаться с ней, что очень болезненно
ощутил утрату. Аврелия одна относилась к нему с настоящим доброжелательством, а
холодность Зерло стала для него в последние дни слишком очевидной. Посему он
поторопился исполнить поручение усопшей, и самому ему не терпелось побыть
некоторое время вдалеке; с другой стороны, его отъезд был очень кстати для
Мелины; ведя обширную переписку, он не замедлил сыскать певца и певицу, которые
могли бы пока что, выступая в интермедиях, подготовить публику к будущей опере.
Это на
первое время восполнило бы уход Аврелии из жизни и отлучку Вильгельма, а наш
друг соглашался на все, что давало ему возможность пробыть в отсутствии
несколько недель.
Он
придавал чрезвычайную важность данному ему поручению.
Кончина
женщины-друга глубоко затронула его и, видя, как рано сошла она со сцены, он,
естественно, проникся враждой к тому, кто сократил ей жизнь, да и эту короткую
жизнь обратил в муку.
Невзирая
на исполненные кротости слова умирающей, оп решил при вручении письма
произнести суровый приговор вероломному любовнику, но, не желая полагаться на
случайное настроение, надумал заготовить речь, которая вышла не в меру
патетической. Вполне уверившись в образцовом построении своего опуса, он заучил
его наизусть и стал готовиться к отъезду. Присутствовавшая при сборах Миньона
спросила его, куда он едет – на юг или на север, – и, узнав, что на север,
заявила:
– Тогда
я буду здесь дожидаться тебя.
Она
попросила подарить ей жемчужную нитку Марианы, и он не мог отказать милому созданию;
шейный платок был уже отдан ей. Зато она сама сунула ему в чемодан серую дымку
призрака, хоть он и говорил, что эта вуаль ни на что ему не нужна.
Мелина
взял на себя режиссерские обязанности, а жена его пообещала материнским оком
надзирать за детьми, от которых Вильгельм отрывался с нелегким сердцем. Феликс,
прощаясь, был очень весел, а когда у него спросили, что ему привезти, он
попросил:
– Послушай-ка!
Привези мне папу.
Миньона
взяла отъезжающего за руки, поднявшись на цыпочки, поцеловала его в губы чистосердечно
и крепко, но без особой нежности и сказала:
– Мейстер!
Не забывай нас и возвращайся поскорее.
Итак, мы
покидаем нашего друга в ту минуту, как он пускается в дорогу, обуреваемый
множеством мыслей и ощущений, и под конец приводим только стихи, которые
Миньона не раз декламировала с большим чувством. Мы же никак не могли раньше
познакомить с ними читателя под натиском такого множества удивительнейших
событий.
Сдержись, я тайны не нарушу,
Молчанье в долг мне вменено.
Я б всю тебе открыла душу,
Будь это роком суждено.
Расходится ночная мгла
При виде солнца у порога,
И размыкается скала,
Чтоб дать источнику дорогу.
И есть у любящих предлог
Всю душу изливать в признанье,
А я молчу, и только бог
Разжать уста мне в состоянье.[53]
|


