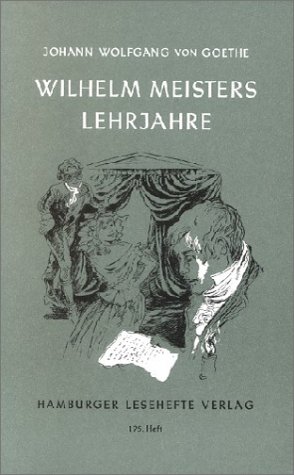
 Увеличить Увеличить |
ГЛАВА СЕДЬМАЯ
– Тихие,
одинокие мои радости страдали из-за отроческих забав и все расширяющегося круга
их участников. В зависимости от игры я попеременно изображал то охотника, то
солдата, то всадника, но у меня всегда было перед остальными одно преимущество:
я умел ловко мастерить нужные атрибуты. Мечи, например, обычно бывали моего
производства; я разукрашивал и золотил салазки и по безотчетному побуждению не
мог успокоиться до тех пор, покуда не обрядил всех наших стражников на античный
лад. Тут были изготовлены и увенчаны бумажными султанами шлемы, сработаны щиты
и даже латы; к таким трудам были привлечены сведущие в портняжестве слуги, а
швеи сломали на этом не одну иглу.
Часть
моих юных товарищей была у меня теперь снабжена всем, что положено, прочих тоже
мало-помалу снарядили, хоть и похуже, – в общем же получился весьма
внушительный отряд. Мы маршировали дворами и парками, бесстрашно лупили друг
друга по щитам и головам; случались у нас и распри, однако они быстро
улаживались.
Эта игра
увлекла всех остальных, но стоило повторить се несколько раз, как она перестала
меня удовлетворять. Зрелище стольких вооруженных фигур, естественно,
подстрекнуло мою тягу к рыцарству, которая овладела мною с тех пор, как я
пристрастился к чтению старинных романов.
Попавший
мне в руки копповский перевод «Освобожденного Иерусалима»[4] прекратил наконец разброд
в моих мыслях, направив их на определенную стезю. Правда, всю поэму я не в
силах был прочитать: зато некоторые места запомнил наизусть, и образы их
носились передо мной. Особенно приковывала меня всеми своими помыслами и
поступками Клоринда. На душу, только начавшую развиваться, больше оказывала
воздействие мужественность этой женской натуры и спокойная полнота ее
внутреннего мира, нежели жеманные прелести Армиды, чьи сады, впрочем, я отнюдь
не презирал.
Но когда
я по вечерам прогуливался по площадке, устроенной между коньками крыши, и
смотрел на окружающую местность, а от закатного солнца у черты горизонта
поднимался мерцающий сумеречный отсвет, звезды проступали на небосводе, изо
всех уголков и провалов надвигалась ночь и звонкое стрекотание кузнечиков
прорезало торжественную тишину, – я сотни и сотни раз повторял в памяти
историю прискорбного единоборства между Танкредом и Клориндой.
Хотя я,
как и должно, был на стороне христиан, однако всем сердцем сочувствовал языческой
героине, замыслившей поджечь гигантскую башню осаждающих. И когда Танкред
встречал среди ночи мнимого воина, и под покровом тьмы возгорался спор, и они
бились что есть силы, стоило мне произнести слова:
Но мера бытия Клоринды уж полна,
И близок час, в который смерть ей
суждена! –[5]
как на
глаза набегали слезы; они лились ручьем, когда злополучный любовник вонзал меч
в ее грудь, снимал шлем с умирающей и, узнав ее, с дрожью спешил принести воду
для крещения.
Но как
же надрывалось мое сердце, когда в зачарованном лесу меч Танкреда поражал дерево
и из надреза текла кровь, а в ушах героя звучал голос, говоривший, что и тут он
нанес удар Клоринде и что ему суждено повсюду, неведомо для себя, ранить то,
что ему всего дороже!
Эта
книга до такой степени полонила мое воображение, что все прочитанные из нее
отрывки смутно слились у меня о единое целое, столь сильно мною завладевшее,
что я мечтал воплотить его на сцене. Мне хотелось сыграть Танкреда и Ринальдо,
для чего нашлось двое полных доспехов, уже изготовленных мною. Один из
темно-серой бумаги, с чешуей назначен был украшать сумрачного Танкреда, другой,
из серебряной и золотой бумаги – блистательного Ринальда. Со всем жаром
воображения я изложил замысел товарищам, которые пришли в восторг, только не
верили, что это может быть представлено на сцене, да еще не кем иным, как ими.
Сомнения
их я рассеял без труда. Прежде всего я мыслен* по завладел несколькими комнатами
в доме жившего по соседству приятеля, даже не заподозрив, что старуха тетка ни
за какие блага не отдаст их. Так же обстояло дело и со сценой, о которой у меня
не было определенного понятия: я знал лишь, что устанавливают ее на дощатом
настиле, кулисы делают из разборных ширм, а для заднего плана нужно большое
полотнище. Но откуда возьмутся потребные материалы и оборудование, над этим я
не задумывался.
Для
изображения леса нашелся отличный выход: улестили бывшего соседского слугу,
ставшего лесником, уговорив его, чтобы он добыл нам молодых березок и сосенок,
которые и были доставлены даже раньше, чем мы рассчитывали. Теперь у нас
возникло новое затруднение – как наладить спектакль, пока не засохли деревья?
Трудно обойтись без мудрого совета, когда нет ни помещения, ни сцены, ни
занавеса. Ширмы – было единственное, чем мы располагали.
В своем
замешательстве мы вновь приступили к лейтенанту, расписав ему все великолепие
нашего замысла. Как ни плохо он понял нас, однако поспешил нам на помощь; он
плотно сдвинул в маленькой каморке все столы, которые только мог собрать в доме
и по соседству, установил на них ширмы, из зеленых занавесок сделал задний
план; деревья тоже сразу же были поставлены в ряд.
Тем
временем стемнело, зажглись свечи, служанки и дети расселись по местам: вот-вот
должна была начаться пьеса, на всех действующих лиц надели театральные костюмы;
тут каждый впервые понял, что не знает, какие слова говорить. В творческом
чаду, всецело поглощенный своим замыслом, я упустил из виду, что каждому ведь
надобно знать, о чем и где ему следует говорить; остальным в спешке
приготовлений это тоже не пришло на ум; им казалось, что нетрудно изобразить из
себя героев, нетрудно действовать и говорить, как те люди, в чей мир я их
перенес. В растерянности топтались они на месте, допытываясь друг у друга, с
чего же начинать, и я, с самого начала представлявший себя Танкредом, один
выступил вперед и принялся декламировать стихи из героической поэмы. Но так как
отрывок очень скоро перешел па повествование, в результате чего я стал говорить
о себе в третьем лице, а Готфрид, о котором шла речь, не желал выходить, то мне
оставалось лишь удалиться под громкий хохот зрителей; я был больно уязвлен такой
неудачей. Эксперимент не удался; зрители сидели и ждали зрелища. Мы были в
костюмах; я взял себя в руки и решил, не долго думая, разыграть сцену Давида с Голиафом.
Кое-кто из участников в свое время вместе со мной ставил?ту пьесу на кукольном
театре, и все много раз видели ее; мы распределили роли, каждый пообещал
стараться вовсю, а один уморительный карапуз намалевал себе черную бороду,
чтобы, случись заминка, сгладить все шутовским выпадом в духе Гансвурста. Лишь
скрепя сердце согласился я на такую меру, противную трагической Сути
представления; однако тут же дал себе зарок: если мне удастся выпутаться из
этой неприятности, впредь не браться за новый спектакль, толком не обсудив
всего.
|


