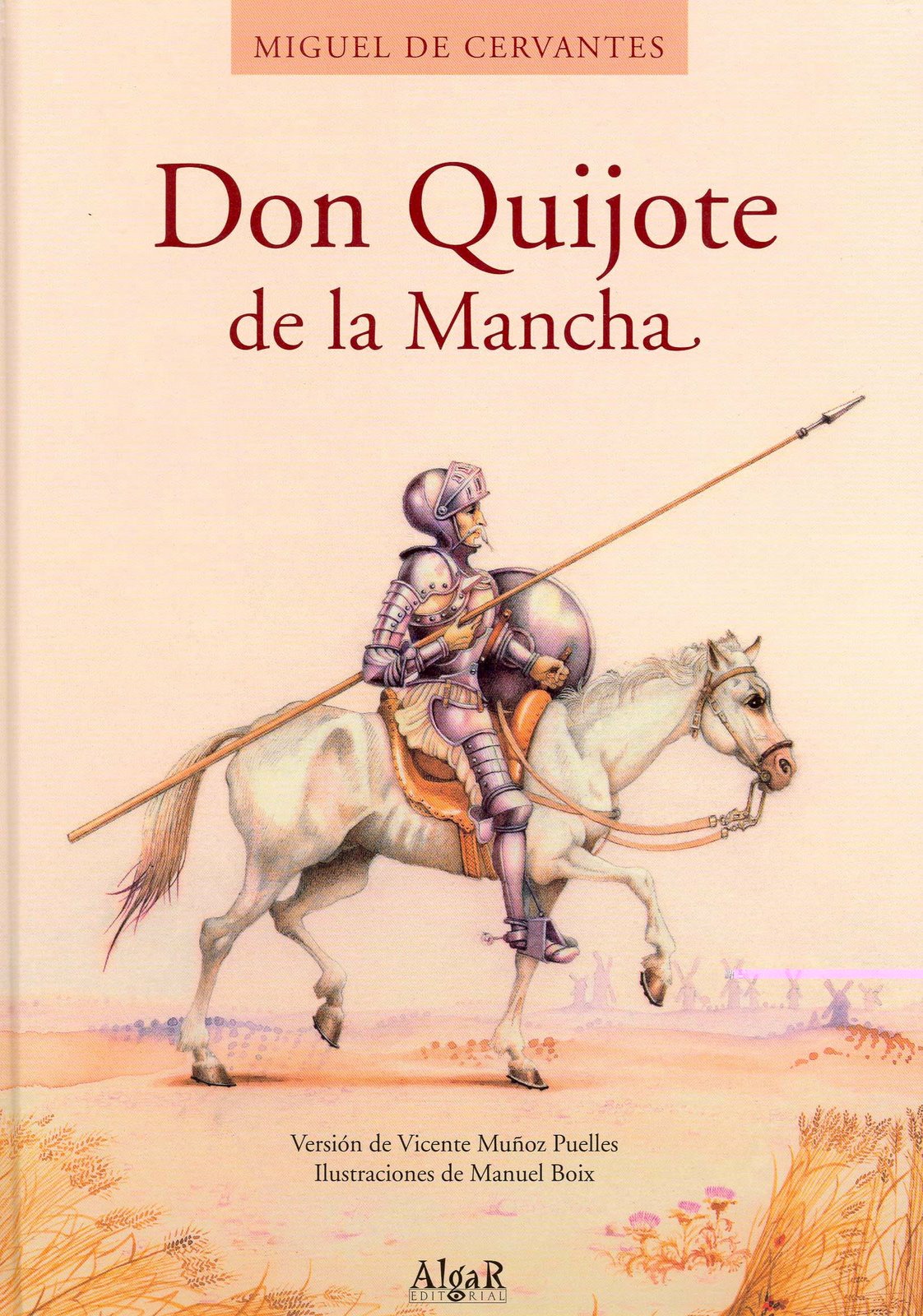
 Увеличить Увеличить |
Глава XXXVIII,
в коей приводится рассказ дуэньи Гореваны о ее недоле
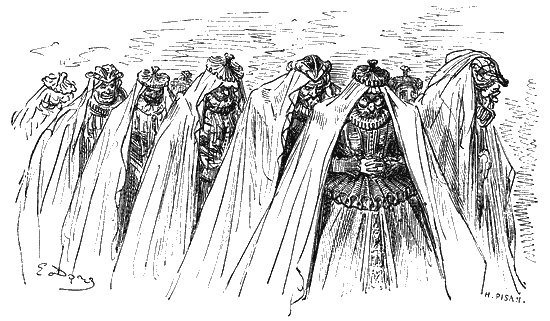
Следом за унылыми музыкантами по саду шли двумя рядами
двенадцать дуэний в широких хламидах, по-видимому из весьма плотного сукна, и в
белых канекеновых покрывалах, столь длинных, что из-под них видна была лишь
каемка хламиды. За ними, опираясь на руку оруженосца Трифальдина Белая Борода,
шествовала сама графиня Трифальди; на ней было платье из отличной черной байки
с таким длинным ворсом, что, если б его завить, каждая ворсинка походила бы на
добрую мартосскую горошину.[434]
Три конца ее шлейфа, иначе говоря – хвоста (можно назвать его и так и этак),
несли, тоже одетые в траур, три пажа, являя собою красивую геометрическую
фигуру, образованную тремя острыми углами, под которыми расходились три конца
ее шлейфа, и всякий, кто глядел на остроконечный этот шлейф, тотчас
догадывался, что потому-то ее и зовут графиней Трифальди, то есть
графиней Трех Фалд; и Бен-инхали подтверждает, что это так и есть, а что
настоящая ее фамилия – графиня Волчуна, ибо в ее графстве водилось много
волков, если же, дескать, в том графстве водились бы во множестве не волки, а
лисицы, то она звалась бы графинею Лисианою, ибо местный обычай таков,
что владетельные князья производят свои фамилии от того предмета или же
предметов, какими их владения изобилуют; однако наша графиня, дабы подчеркнуть
необычайность своего шлейфа, переменила фамилию Волчуна на Трифальди.
Графиня шла величавою поступью, равно как и все двенадцать
ее дуэний, коих лица были закрыты черною вуалью, и не прозрачною, как у
Трифальдина, но до того густою, что сквозь нее ничего нельзя было разглядеть.
Как скоро отряд дуэний показался в саду, герцог, герцогиня и Дон Кихот встали,
а за ними и все, кто созерцал медлительное это шествие. Наконец двенадцать дуэний
остановились, образовав проход, и между ними, по-прежнему опираясь на руку
Трифальдина, прошла Горевана, герцог же, герцогиня и Дон Кихот сделали шагов
двенадцать ей навстречу. Графиня опустилась на колени и заговорила голосом отнюдь
не тонким и не нежным, а скорее грубым и хриплым:
– Благоволите, ваши величия, не воздавать таких
почестей вашему покорному слуге, то бишь служанке: ведь я пребываю в горе и
из-за этого не могу ответить вам тем же, ибо необыкновенное мое и доселе невиданное
несчастье отшибло у меня разум и унесло невесть куда, и, должно полагать,
весьма далеко; потому что сколько я ни ищу мой разум, а сыскать так-таки и не
могу.
– Вовсе неразумным, сеньора графиня, мы почли бы
того, – молвил герцог, – кто с первого взгляда не распознал бы ваших
совершенств, которые бесспорно заслуживают наивысших учтивостей и наиторжественнейших
церемоний.
Тут он предложил ей руку и усадил ее в кресло рядом с
герцогинею, герцогиня же оказала ей не менее любезный прием. Дон Кихот молчал,
а Санчо Пансе страх как хотелось увидеть лицо самой Трифальди или же
какой-нибудь из многочисленных ее дуэний, но это могло быть только в том
случае, если б они по своей доброй воле и хотению сняли вуаль.
Никто не шевелился, все хранили молчание, ожидая, чтобы
кто-нибудь его нарушил, и первая нарушила его дуэнья Горевана, поведя такую
речь:
– Я уверена, могущественнейший сеньор, прекраснейшая
сеньора и все просвещеннейшее общество, что злейшее мое злоключение встретит в
доблестнейших сердцах ваших столько же снисхождения, сколь и великодушия и
сострадания, ибо злоключение мое таково, что оно способно растрогать мрамор,
смягчить алмазы и расплющить булат самых жестоких сердец на свете. Однако,
прежде нежели оно достигнет области вашего слуха (слово уши мне кажется
слишком грубым), я бы хотела знать, находится ли в вашем обществе, кругу и
компании безупречнейший рыцарь – Ламанчнейший Дон Кихот и оруженоснейший его Панса.
– Панса здесь, и кихотейший Дон также, – прежде
чем кто-либо успел ответить, объявил Санчо, – так что вы, горемычнейшая и
дуэньейшая, можете говорить все, что только придет в головейшую вашу голову, мы
же всегдайше готовы к услужливейшим вашим услугам.
В это время поднялся Дон Кихот и, обращая свою речь к
горюющей дуэнье, молвил:
– Если ваши невзгоды, скорбящая сеньора, оставляют вам
хотя бы отдаленную надежду, что сила и доблесть странствующего рыцаря могут вам
помочь, то я готов все свои силы, пусть малые и слабые, отдать на служение вам.
Я – Дон Кихот Ламанчский, коего назначение – защищать всех обездоленных,
следственно, вам нет нужды, сеньора, стараться расположить нас к себе и
начинать с предисловий, – говорите напрямик, без околичностей, о своих
огорчениях: к вашей повести приклонили слух такие люди, которые сумеют если не
выручить вас из беды, то, по крайней мере, разделить вашу скорбь.
При этих словах дуэнья Горевана сделала такое движение,
словно желала броситься к ногам Дон Кихота, и она в самом деле бросилась и,
пытаясь обнять их, заговорила:
– Я припадаю к вашим стопам и ногам, о непобедимый
рыцарь, ибо они суть основание и опора странствующего рыцарства! Я желаю
облобызать сии стопы, от чьих шагов теснейшим образом зависит избавление от
всех моих бед, о доблестный странствующий рыцарь, коего истинные подвиги
затмевают и оставляют позади баснословные подвиги Амадисов, Эспландианов и Бельянисов!
Затем она обратилась к Санчо Пансе и, схватив его за руки,
молвила:
– О ты, вернейший из всех оруженосцев, находившихся на
службе у странствующих рыцарей в веке нынешнем, а равно и в веках минувших,
оруженосец, чьи достоинства безмернее бороды спутника моего Трифальдина, здесь
присутствующего! Ты вправе гордиться тем, что служишь великому Дон Кихоту, ибо
в его лице ты служишь всей уйме рыцарей, которые когда-либо брались за оружие.
Заклинаю тебя неизменными твоими добродетелями: будь добрым посредником между
мною и твоим господином, дабы он не замедлил вступиться за эту смиреннейшую и
незадачливейшую графиню.
Санчо же ей на это сказал:
– Что мои достоинства, сеньора, велики и огромны, как
борода вашего оруженосца, – это меня весьма мало трогает. Лишь бы только
душа моя перешла в мир иной с бородою и с усами, – вот что мне важно, а до
здешних бород мне мало, а вернее сказать, и совсем нет никакого дела. Но только
я и без такого умасливанья и клянчанья попрошу моего господина (а я знаю, что
он меня любит, особливо теперь, когда я ему нужен для одного дела), чтобы он, в
чем может, оказал вам помощь и покровительство. Выкладывайте нам, ваша милость,
свою беду, рассказывайте все по порядку и не беспокойтесь: уж как-нибудь мы с
вами столкуемся.
Герцогу и герцогине была известна подоплека этого
приключения, и теперь они умирали со смеху и мысленно восторгались
сообразительностью графини Трифальди и ее уменьем притворяться, а графиня между
тем снова села в кресло и начала свой рассказ:
– В славном королевстве Кандайе,[435] которое находится
между великой Трапобаной и Южным морем, в двух милях от мыса Коморина,
властвовала королева Майнция, вдова короля Архипелага, от какового супруга и
повелителя у нее родилась и появилась на свет наследница престола инфанта
Метонимия. Упомянутая мною инфанта Метонимия росла и воспитывалась под моим
присмотром и надзором, ибо я была старейшею и наиболее знатною дуэньей ее
матери. Долго ли, коротко ли, маленькой Метонимии исполнилось четырнадцать лет,
и была она так прекрасна, что казалось, будто природа ничего более совершенного
создать не могла. И не подумайте, что она не вышла умом! Нет она была такая же
умница, как и красавица, а красавица она была первая в мире, была и есть, если
только завистливый рок и неумолимые парки не пресекли нить ее жизни. Но нет, не
может этого быть: небо не допустит чтобы на земле учинилось подобное злодеяние
и чтобы кисть лучшей в мире виноградной лозы была сорвана незрелой. Красота ее,
которую не в силах должным образом восславить неповоротливый мой язык, пленила
бесчисленное множество владетельных князей, как туземных, так и иностранных, и
среди прочих отважился вознести свои помыслы к небу несказанной ее красоты
некий простой кавальеро, столичный житель; он полагался на свою молодость и
молодечество, на многосторонние свои способности и дарования, на быстроту и
тонкость мыслей, ибо надобно вам знать, ваши величия, если только мой рассказ
вам еще не наскучил, что гитара у него в руках прямо так и разговаривала, да к
тому же он был стихотворец, изрядный танцор и умел мастерить клетки для птиц,
так что в случае крайней нужды одними этими клетками мог бы заработать себе на
кусок хлеба, – словом, все эти достоинства и дарования могли бы сдвинуть
гору, а не то что прельстить нежную деву. Однако все пригожество его и очаровательная
приятность, равно как и все дарования его и способности мало что или даже
совсем ничего не могли бы поделать с крепостью, которую представляла собой моя
воспитанница, если бы этот разбойник и нахал не почел за нужное покорить
сначала меня. Этот лиходей и бесстыжий прощелыга задумал прежде всего подкупить
меня и задобрить, чтобы я, недостойный комендант, отдала ему ключи от
охраняемой мною крепости. Коротко говоря, он затуманил лестью мой разум и
покорил мое сердце разными вещицами и безделушками. Но уж никак не могла я
устоять и сдалась окончательно, когда однажды ночью, сидя у окна, выходившего в
переулок, услыхала я его пение, а пел он, сколько я помню, вот какую песню:
Ранен в сердце я прекрасной[436]
Ненавистницей моей
И – что вдвое тяжелей –
Должен боль терпеть безгласно.
Песня эта показалась мне перлом создания, а голос его –
сладким, как мед, и только потом, когда я увидела, как меня подвели эти и им
подобные вирши, я пришла к мысли, что поэтов должно изгонять из государств
благоустроенных, как это и советовал Платон, – по крайности, поэтов
сладострастных, потому что их стихи не имеют ничего общего со стихами о маркизе
Мантуанском, которые приводят в восторг и заставляют проливать слезы и детей, и
женщин, остроумие же сладострастных поэтов пронзает вам душу, подобно нежным
шипам, и опаляет ее, как молния, не прожигая покровов. А затем вот что он еще
пел:
Смерть! Конец приуготовь[437]
Мне с такою быстротою,
Чтобы, насладясь тобою,
Благом жизнь не счел я вновь.
И еще в этом вкусе пел он песенки и куплеты, которые чаруют,
когда их поют, и приводят в изумление, когда их читают. А что бывает, когда
стихотворцы снисходят до того рода поэзии, который в Кандайе был тогда широко
распространен и именовался сегидильей! Тут уж душа гуляет, тело
пускается в пляс, тебя разбирает смех, и чувства приходят в волнение. Вот
потому-то я и говорю, государи мои, что подобных стихотворцев с полным правом
должно бы ссылать на острова Ящериц.[438]
Впрочем, виноваты не они, а те простаки, которые их восхваляют, и те дурынды,
которые им верят, и если б я была тою добродетельною дуэньей, какой мне быть
надлежало, меня бы не тронули все эти полунощные сочинения, и я бы усомнилась в
искренности подобных выражений: «Я живу умирая, пылаю во льду, замерзаю в огне,
надеюсь без надежды, удаляюсь и остаюсь» – и прочих несуразностей в этом же
роде, коими полны такие писания. В самом деле, разве рифмачи не сулят своим
возлюбленным феникса Аравии, венца Ариадны,[439]
коней Солнца,[440]
перлов Юга, золота Червонии[441]
и бальзама Панкайи?[442]
Тут они дают полную волю своим перьям, – ведь им ничего не стоит обещать
то, чего они не собираются, да и не могут исполнить. Но зачем же я уклонилась
от моего предмета? Увы мне, несчастной! Что за безумие и что за сумасбродство
перечислять чужие недостатки, меж тем как мне еще столько остается сказать о
моих собственных! Еще раз: увы мне, злосчастной! Ведь меня сгубили не стихи, а
собственное мое простодушие; меня сбила с толку не музыка, а мое же собственное
легкомыслие; великая моя неопытность и малая осмотрительность проложили дорогу
и расчистили путь дону Треньбреньо – так звали помянутого кавальеро. И вот при
моем посредстве он не раз и не два проникал в покой к Метонимии, обольщенной не
им, а мною самой, проникал на правах законного супруга, ибо хоть я и великая
грешница, а все же нипочем, – то есть, виновата, не нипочем, а ни за что
не допустила бы, чтобы кто-нибудь, кроме супруга, коснулся ранта на подошве ее
башмачков. Нет, нет, ни в коем случае. За какие бы дела я ни взялась, брак
всегда будет у меня стоять на первом месте! В этом же деле вся беда заключается
в неравенстве положений: дон Треньбреньо – простой дворянин, а инфанта Метонимия,
как я уже сказала, – наследница королевского престола. Некоторое время эта
интрижка укрывалась и таилась в благоразумии моей осторожности, но затем я
поняла, что она не может не открыться, ибо животик у Метонимии по неведомой
причине все вздувался и вздувался, и, в ужасе от этого вздутия Метонимиева
живота, мы все трое собрались на совещание и порешили, что, прежде нежели злое
это дело обнаружится, дон Треньбреньо в присутствии викария попросит руки
Метонимии на основании письма, в коем инфанта давала обещание быть его женою и
которое я же ей и продиктовала: моя выдумка помогла мне составить его в столь
сильных выражениях, что их не разрушила бы и сила Сампсонова. Были приняты
надлежащие меры, означенный викарий прочитал письмо и допросил инфанту, инфанта
во всем созналась, и тогда он велел ей укрыться в доме некоего почтенного
столичного альгуасила.
Тут вмешался Санчо:
– Раз в Кандайе тоже есть альгуасилы, поэты и
сегидильи, то я могу поклясться, что все на свете устроено одинаково. Только вы
поторопитесь, ваша милость, сеньора Трифальди: ведь уж поздно, а мне смерть как
хочется узнать, чем кончилась вся эта длинная история.
– Сейчас, сейчас, – объявила графиня.
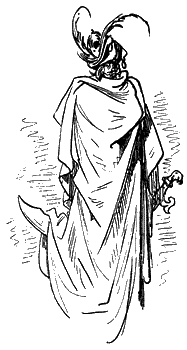
|


