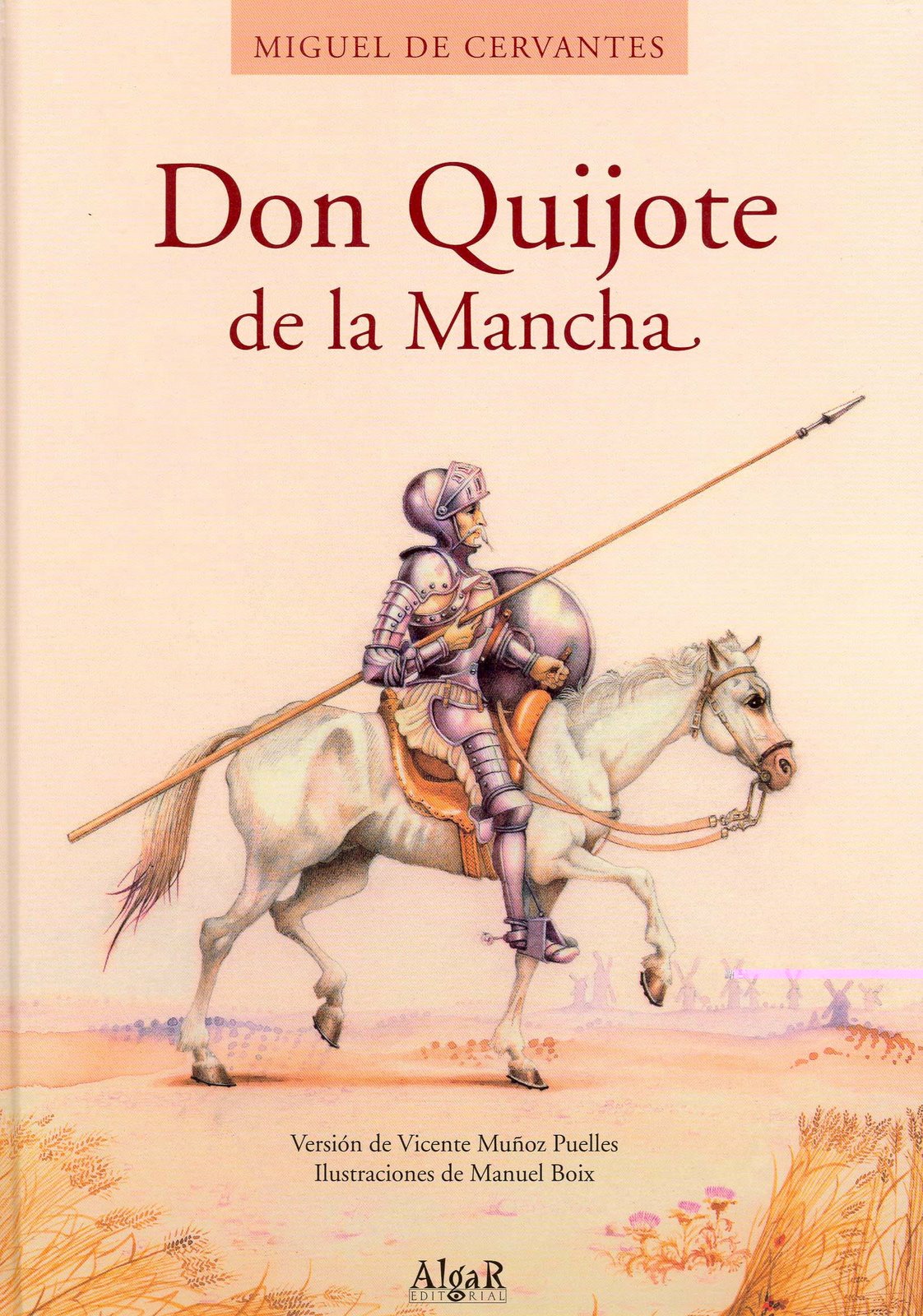
 Увеличить Увеличить |
Глава XXXI
о
любопытной беседе, которую вели между собою Дон Кихот и его оруженосец Санчо
Панса, равно как и о других происшествиях
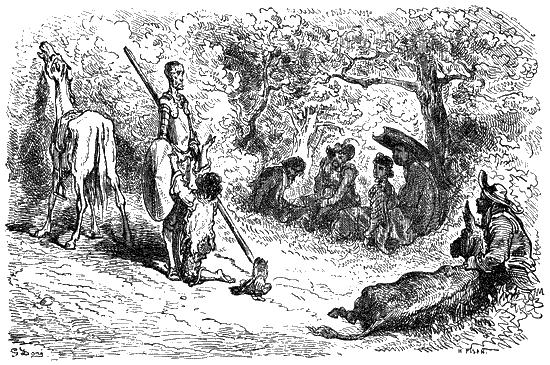
– Пока
что я доволен, – сказал Дон Кихот, – продолжай. Вот ты пришел, –
чем в это время была занята царица красоты? Вернее всего, низала жемчуг или же
золотыми нитками вышивала девиз для преданного ей рыцаря?
– Никак
нет, – отвечал Санчо, – она просеивала зерно у себя во дворе.
– Так
вот знай же, – сказал Дон Кихот, – что зерна, к коим прикасались ее
руки, превращались в жемчужины. А ты не обратил внимания, друг мой, какое это
было зерно? Верно, самой лучшей пшеницы?
– Ан
нет, самой что ни на есть дешевой, – отвечал Санчо.
– Ну
так я тебя уверяю, – сказал Дон Кихот, – что из зерна, просеянного ее
руками, вне всякого сомнения получается наичистейший белый хлеб. Но продолжай.
Когда ты вручил ей мое послание, поцеловала ли она его? Возложила ли себе на
главу? Совершила ли приличествующие моему письму церемонии, – словом, что
она сделала?
– Когда
я передавал ей письмо, – отвечал Санчо, – она с увлечением трясла
решето, в коем было изрядное количество пшеницы, и сказала мне: «Положи-ка,
милый человек, письмо на мешок, – пока всего не просею, я его читать не
стану».
– О
мудрая сеньора! – воскликнул Дон Кихот. – Уж верно, это она для того,
чтобы прочитать на досуге и получить полное удовольствие. Дальше, Санчо. А пока
она занималась своим делом, какие вела она с тобою речи? Спрашивала ли обо мне?
И что ты ей ответил? Да ну же, рассказывай все, как было, капли не оставляй на
дне чернильницы!
– Она
меня ни о чем не спрашивала, – отвечал Санчо, – но я ей все
рассказал: так, мол, и так, мой господин, чтобы угодить вам, забрался в горы,
ровно дикарь, и, голый до пояса, кается; спит на земле, во время трапезы
обходится без скатерти, бороды не чешет, плачет и клянет судьбу.
– Насчет
того, что я кляну судьбу, это ты неудачно выразился, – заметил Дон
Кихот. – Напротив, я ее благословляю и буду благословлять всю жизнь за то,
что я оказался достойным полюбить столь высокую особу, какова Дульсинея
Тобосская.
– Она
высокая, – сказал Санчо, – вершка на три с лишком выше меня будет,
клянусь честью.
– Как
так, Санчо? – спросил Дон Кихот. – Разве ты с ней мерился?
– Вот
как я мерился, – отвечал Санчо, – я вызвался помочь ей взвалить на
осла мешок с зерном и стал с нею рядом, – тут-то я и заметил, что она выше
меня на добрую пядь.
– И
кто посмеет утверждать против очевидности, – воскликнул Дон Кихот, –
что высокому ее росту не соответствует и не украшает ее бездна душевных красот?
Но ты, уж верно, не станешь отрицать, Санчо, одну вещь: когда ты подошел к ней
вплотную, не почувствовал ли ты некий упоительный аромат, некое благоухание,
нечто необычайно приятное, для чего я не могу подобрать подходящего выражения?
Словом, что от нее пахнет, как в лучшей из модных лавок?
– На
это я могу только сказать, что я вроде как мужской душок почувствовал, –
отвечал Санчо, – должно полагать, она много двигалась, ну и вспотела, и от
нее попахивало кислятиной.
– Полно
врать, – возразил Дон Кихот, – у тебя, наверно, был насморк, или же
ты почувствовал свой собственный запах. Я же знаю, как благоухает эта роза без
шипов, эта полевая лилия, этот раствор амбры.
– Все
может быть, – согласился Санчо, – от меня часто исходит тот самый
дух, который, как мне показалось, шел тогда от ее милости сеньоры Дульсинеи. И
тут ничего удивительного нет: ведь мы с ней из одного теста.
– Итак, –
продолжал Дон Кихот, – она уже просеяла зерно и отправила на мельницу. Что
она сказала, когда прочитала послание?
– Послание
она не прочла, – отвечал Санчо, – она сказала, что не умеет ни
читать, ни писать. Она разорвала его в клочки и сказала, что боится, как бы кто
в деревне его не прочел и не узнал ее секретов, – с нее, мол, довольно и
того, что я передал ей на словах насчет любви, которую ваша милость к ней
питает, и того из ряду вон выходящего покаяния, которые вы ради нее на себя
наложили. А затем она велела передать вашей милости, что она целует вам руки и
что ей больше хочется с вами повидаться, нежели писать вам письма, а потому
она, дескать, просит и требует, чтобы по получении настоящего распоряжения вы
перестали дурачиться и, выбравшись из этих дебрей, если только что-нибудь более
важное вас не задержит, нимало не медля направили путь в Тобосо, потому она
страх как хочет повидаться с вашей милостью. Она от души смеялась, когда я ей
сказал, что ваша милость называет себя Рыцарем Печального Образа. Спросил
я, заходил ли к ней достопамятный бискаец, – она сказала, что заходил и
что он малый хороший. Еще я спросил ее про каторжников, но она сказала, что
пока еще никто из них к ней не заходил.
– Пока
все идет хорошо, – заметил Дон Кихот. – Но скажи мне, какую
драгоценную вещь дала она тебе на прощанье за вести обо мне? Ведь у
странствующих рыцарей и дам искони повелось жаловать оруженосцам, наперсницам и
карликам, прибывающим с вестями о дамах к рыцарям или же о рыцарях к дамам,
какую-нибудь драгоценную вещь в благодарность за исполненное поручение.
– Весьма
возможно, и, по-моему, это обычай похвальный. Но только это, наверно, прежде
так было, а нынче принято дарить кусок хлеба с сыром, потому только это и
протянула мне через забор сеньора Дульсинея, когда я с нею прощался, да и
сыр-то вдобавок овечий.
– В
высшей степени щедрая благостыня, – возразил Дон Кихот, – и Дульсинея
не подарила тебе какой-нибудь золотой вещи, по всей вероятности, единственно
потому, что у нее ничего не нашлось под рукой, однако подарки дороги не только
на праздник, – я с нею свижусь, и все уладится. Но знаешь, что меня
удивляет, Санчо? Мне кажется, что ты слетал туда и обратно по воздуху: на то,
чтобы съездить в Тобосо и вернуться обратно, ты потратил три дня с лишком, а
ведь отсюда до Тобосо более тридцати миль. Из этого я заключаю, что мудрый
кудесник, который обо мне печется и питает ко мне дружеские чувства – а таковой
у меня, конечно, есть, да и не может не быть, иначе я не был бы славным
странствующим рыцарем, – что помянутый кудесник неприметно помогал тебе в
пути: ведь иной из таких кудесников схватит странствующего рыцаря, когда тот
спит у себя на кровати, и рыцарь сам не знает, как, что и почему, а только на
второй день просыпается за тысячу миль от того места, где лег спать. А если б
не кудесники, странствующие рыцари не могли бы выручать друг друга из беды, как
это они делают постоянно: бывает иной раз так, что кто-нибудь из рыцарей
сражается в горах Армении с андриаком, со злым чудовищем или же с другим рыцарем, –
вдруг, откуда ни возьмись, в самый страшный для него миг сражения, когда он уже
на волосок от смерти, прилетает туда на облаке или же на огненной колеснице
рыцарь, его друг, который только что перед тем находился в Англии, бросается на
его защиту и спасает от смерти, а вечером этот рыцарь уже у себя дома и с
большим аппетитом ужинает, а до его дома, может быть, две, а то и три тысячи
миль. И всем этим рыцари обязаны искусству и мудрости мудрых волшебников,
заботящихся о доблестных рыцарях. Вот почему, друг Санчо, мне нетрудно поверить,
что ты за такое короткое время успел обернуться, ибо, как я уже сказал, некий
мудрый покровитель перенес тебя по воздуху, а ты этого и не заметил.
– Уж
верно, так оно и было, – сказал Санчо, – потому Росинант мчался,
ей-ей, как цыганский осел, у которого в ушах ртуть.[187]
– Какая
там ртуть! – воскликнул Дон Кихот. – Не ртуть, а целый легион бесов,
а уж это отродье и само носится, и заставляет носиться без устали всякого, кто
только ему попадется. Но довольно об этом. Как же, по-твоему, надлежит теперь
поступить, коли моя госпожа велит мне явиться к ней? Я почитаю себя обязанным
выполнить ее приказание и вместе с тем не могу сделать обещанной милости той
принцессе, что едет с нами, да и по законам рыцарства я должен сначала
исполнить свое обещание, а потом уже думать об удовольствиях. С одной стороны,
меня преследует и томит желание свидеться с моею госпожою; с другой стороны,
меня влекут и призывают данное обещание и та слава, которую это предприятие мне
сулит. Но вот что я надумал: я поеду быстрее и постараюсь как можно скорей
добраться до этого великана, приехав же, отсеку ему голову и благополучно введу
принцессу во владение ее страною, а затем, не теряя мгновенья, помчусь к
светоносной владычице, озаряющей мою душу, и представлю ей столь уважительные
причины, что она не осудит меня за опоздание, – она увидит, что все это
служит лишь к вящей славе ее и чести, ибо все, чего я силой оружия достигал,
достигаю и еще когда-либо в этом мире достигну, проистекает от ее благосклонности
и моей верности.
– Ах,
ваша милость, до чего ж у вас голова не в порядке! – воскликнул
Санчо. – Ну скажите мне, сеньор: неужели ваша милость собирается даром
пропутешествовать, и упустить, и прозевать такую богатую и знатную невесту, в
приданое за которой дают целое королевство, каковое, – честное слово, я
сам слыхал, – имеет свыше двадцати тысяч миль в окружности, стало быть, побольше
Португалии и Кастилии, вместе взятых, и изобилует всем, что необходимо для
того, чтобы поддержать человеческое существование? И не перечьте вы мне ради
создателя, лучше постыдитесь своих слов, послушайтесь моего совета и, не во
гнев вам будь сказано, обвенчайтесь в первом же селении, где только найдется
священник, а не то к вашим услугам наш лиценциат, – он вас обвенчает в
лучшем виде. И еще примите в рассуждение, что в моем возрасте можно давать
советы, что этот совет как нельзя более уместен и что лучше синицу в руки, чем
журавля в небе, – ведь кто ищет от добра добра, тому долго ль до беды, а
за одну беду – как это говорится? – семь ответов бывает.
– Послушай,
Санчо, – сказал Дон Кихот, – если ты советуешь мне жениться
единственно потому, что, убив великана, я тотчас же сделаюсь королем и мне
сподручнее будет осыпать тебя щедротами и пожаловать обещанное, то знай, что
мне и неженатому не составит труда исполнить твое желание, ибо, прежде чем
вступать в бой, я выговорю себе, что в случае моей победы, даже если я и не
женюсь, мне отдадут часть королевства, дабы я мог подарить ее кому захочу. А
когда она мне достанется, то кому же я ее подарю, как не тебе?
– Это-то
ясно, – отвечал Санчо, – но только смотрите, ваша милость, выбирайте
поближе к морю, чтобы в случае, если мне там не понравится, я мог погрузить
моих черных вассалов на корабли, а затем сделать с ними то самое, что я уже
вознамерился сделать. Так что, ваша милость, не вздумайте навещать госпожу мою
Дульсинею теперь же, а поезжайте убивать великана, и мы с вами обделаем
дельце, – клянусь богом, мне сдается, что оно будет для нас и весьма
почетно, и весьма выгодно.
– Говорят
тебе, Санчо, что ты можешь быть совершенно спокоен, – сказал Дон
Кихот, – я последую твоему совету и поеду сначала с принцессой, а потом
уже навещу Дульсинею. Но имей в виду: о нашем с тобой решении и уговоре никому
ни слова, даже нашим спутникам, ибо если Дульсинея столь сдержанна, что никому
не желает поверять свои думы, то и мне, а равно и кому-либо другому, неприлично
их разглашать.
– В
таком случае, – заметил Санчо, – зачем же вы, ваша милость, отсылаете
всех побежденных вашею дланью к госпоже моей Дульсинее? Стало быть, вы
расписываетесь в том, что вы в нее влюблены и что она ваша возлюбленная? А если
уж так необходимо, чтобы все, кто к ней отправляется, преклоняли пред нею
колена и объявляли, что они посланы вашею милостью и поступают в полное ее
распоряжение, то могут ли после этого и ваши и ее думы оставаться в тайне?
– Экий
ты дурачина, экий же ты простофиля! – воскликнул Дон Кихот. – Неужели
ты не понимаешь, Санчо, что все это способствует ее возвеличению? Да будет тебе
известно, что, по нашим рыцарским понятиям, это великая для дамы честь, когда
ей служит не один, а много странствующих рыцарей и когда они мечтают
единственно о том, чтобы служить ей ради нее самой, не ожидая иной награды за
все свои благие намерения, кроме ее соизволения принять их в число своих
рыцарей.
– Подобного
рода любовью должно любить господа бога, – такую я слыхал
проповедь, – сказал Санчо, – любить ради него самого, не надеясь на
воздаяние и не из страха быть наказанным. Хотя, впрочем, я лично предпочел бы
любить его и служить ему за что-нибудь.
– Ах
ты, черт тебя возьми! – воскликнул Дон Кихот. – Мужик, мужик, а какие
умные вещи иной раз говоришь! Право, можно подумать, что ты с образованием.
– По
чести вам скажу, я даже читать и то не умею, – объявил Санчо.
Тут
маэсе Николас крикнул им, чтобы они подождали, ибо все хотят сделать привал
возле родника. Дон Кихот остановился, к немалому удовольствию Санчо, который
уже устал врать и все боялся, как бы Дон Кихот не поймал его на ошибке, ибо
хоть он и знал, что Дульсинея – тобосская крестьянка, однако ж сроду не видел
ее.
За это
время Карденьо успел переодеться в платье, в котором трое наших путников
впервые увидели Доротею, – платье, правда, неважное, но все же гораздо
лучше того, которое он носил. Спешившись возле источника, все – правда, слегка
– утолили мучивший их голод тем, что священник промыслил на постоялом дворе. В
это самое время по дороге шел какой-то мальчуган; в высшей степени внимательно
оглядев тех, кто расположился возле источника, он со всех ног бросился к Дон
Кихоту и, обняв его колени, нарочито жалобно заплакал и сказал:
– Ах,
государь мой! Вы не узнаете меня, ваша милость? Посмотрите хорошенько, я тот самый
мальчик Андрес, который был привязан к дубу и которого вы, ваша милость,
освободили.
Дон
Кихот узнал его и, взяв за руку, обратился к присутствовавшим с такими словами:
– Дабы
ваши милости уверились в том, как важно, чтобы жили на свете странствующие рыцари,
которые мстят за обиды и утеснения, чинимые людьми бессовестными и злыми, да
будет вашим милостям известно, что не так давно, проезжая по лесу, услышал я
жалобные крики и стоны, – так стонать могло лишь существо униженное и
беззащитное. Побуждаемый чувством долга, я поспешил туда, откуда, как мне казалось,
слезные эти стоны долетали, и увидел привязанного к дубу мальчика, того самого,
который ныне стоит перед вами, чему я от души рад, ибо он может подтвердить,
что все это истинная правда. Итак, голый до пояса, он был привязан к дубу, и
его стегал поводьями некий сельчанин – как я узнал потом, его хозяин. Увидевши
это, я тотчас спросил, что за причина столь нещадного бичевания. Грубиян ответил,
что сечет он его потому, что это его слуга и что некоторые оплошности
мальчугана проистекают не столько от его бестолковости, сколько от
жуликоватости, на что отрок сей возразил: «Сеньор! Он бьет меня только за то,
что я прошу у него свое жалованье». Хозяин стал оправдываться и разливаться
соловьем, я же выслушать его выслушал, но оправданий не принял. Коротко говоря,
я велел отвязать мальчика и взял с сельчанина клятву, что он пойдет с ним домой
и уплатит ему все до последнего реала, да еще с благодарностью. Не так ли, милый
Андрес? Заметил ли ты, каким властным тоном отдал я это приказание и с каким
подобострастным видом обещал он исполнить то, что я повелел, предписал и
потребовал? Отвечай – не смущайся и не робей. Расскажи этим сеньорам все, как было,
дабы они уразумели и признали, какое это великое благо, что на больших дорогах
можно встретить странствующих рыцарей.
– Все
это совершенная правда, ваша милость, – подтвердил мальчик, – вот
только кончилось это дело не так, как ваша милость предполагает, а как раз
наоборот.
– Почему
наоборот? – спросил рыцарь. – Разве сельчанин тебе не уплатил?
– Не
только не уплатил, – отвечал мальчуган, – а, едва успела ваша милость
выехать из лесу и мы остались вдвоем, он снова привязал меня к тому же самому
дубу и так мне всыпал, что у меня чуть кожа не лопнула, вроде как у святого
Варфоломея. И лупил он меня с шуточками да прибауточками и все прохаживался на
ваш счет, так что, если б не боль, я покатывался бы со смеху. В конце концов
скверный мужик так немилосердно меня отстегал, что по его милости я до сего дня
пролежал в больнице. А виноваты во всем этом вы, государь мой, – ехали бы
вы своей дорогой, не лезли, куда вас не спрашивают, и не вмешивались в чужие
дела, тогда мой хозяин от силы раз двадцать пять стегнул бы меня, затем отвязал
и уплатил бы мне долг. Но как ваша милость ни с того ни с чего оскорбила его и
наговорила грубостей, то он воспылал злобой, а как выместить ее на вас,
государь мой, он не мог, то, когда вы удалились, вся туча вылилась на меня, и
останусь я, видно, теперь на всю жизнь калекой.
– Ошибка
моя заключается в том, что я уехал, не подождав, пока он тебе заплатит, –
сказал Дон Кихот, – мой большой опыт должен был бы мне подсказать, что
смерд никогда не держит слова, коли это ему невыгодно. Но ведь ты помнишь,
Андрес, я же клялся, что если он тебе не заплатит, то я стану искать его и
найду, хотя бы он прятался во чреве китовом.
– Совершенная
правда, – подтвердил Андрес, – да что толку!
– Вот
ты увидишь, какой от этого толк, – молвил Дон Кихот.
С этими
словами он вскочил и велел Санчо взнуздать Росинанта, который пасся, пока они
закусывали.
Доротея
спросила, что он намерен предпринять. Он ответил, что намерен отправиться на розыски
смерда, назло и наперекор всем смердам на свете наказать его за дурной поступок
и заставить уплатить Андресу все до последнего мараведи; она же, напомнив Дон
Кихоту, что, согласно данному им обещанию, он не вправе заниматься другими
делами, пока не доведет до конца ее дело, примолвила, что все это ему должно
быть известно лучше, чем кому бы то ни было, а потому пусть-де он умерит свой
пыл, коли еще не отвоевал ее королевства.
– И
то правда, – сказал Дон Кихот, – придется Андресу потерпеть, пока я,
как вы изволили заметить, сеньора, отвоюю королевство. Но я еще раз обещаю и
клянусь, что не успокоюсь до тех пор, пока не отомщу за него и не заставлю ему
уплатить.
– Не
верю я вашим клятвам, – объявил Андрес. – Любой мести на свете я
предпочел бы, чтобы у меня было сейчас с чем добраться до Севильи. Коли
найдется у вас что-нибудь поесть, дайте мне с собой, и оставайтесь с богом вы,
ваша милость, и все странствующие рыцари, чтоб с ними все так рыцарствовали,
как они порыцарствовали со мной.
Санчо
выделил из своего запаса кусок хлеба и кусок сыру, отдал их мальчугану и
сказал:
– На,
братец Андрес, – нам всем выпала такая же горькая доля.
– Какая
же доля выпала вам? – спросил Андрес.
– Вот
эта самая доля хлеба и сыра, – отвечал Санчо. – Да еще, кто знает,
может, у меня и хлеба-то с сыром не будет, потому, приятель, было бы тебе известно,
что нам, оруженосцам странствующих рыцарей, приходится терпеть и муки голода, и
удары судьбы, и разные другие вещи, весьма чувствительные, но почти
непередаваемые.
Андрес
схватил хлеб и сыр и, видя, что никто ему больше ничего не дает, понурил голову
и, как говорится, пошел отмерять шаги. Впрочем, на прощанье он сказал Дон
Кихоту следующее:
– Ради
создателя, сеньор странствующий рыцарь, если вы еще когда-нибудь со мной встретитесь,
то, хотя бы меня резали на куски, не защищайте и не выручайте меня и не
избавляйте от беды, ибо ваша защита навлечет на меня еще горшую, будьте вы
прокляты богом, а вместе с вашей милостью и все странствующие рыцари, какие
когда-либо появлялись на свет.
Дон
Кихот хотел было встать, чтобы проучить его, но Андрес так припустил, что никто
не дерзнул броситься за ним в погоню. Рассказ Андреса привел Дон Кихота в
великое смущение, и присутствовавшим надлежало крепко держать себя в руках,
чтобы не рассмеяться и не смутить его окончательно.
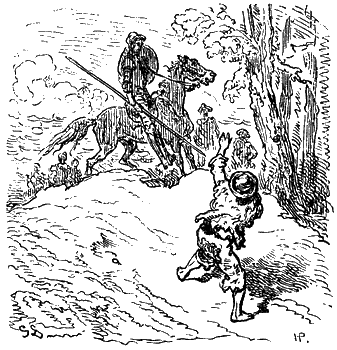
|


