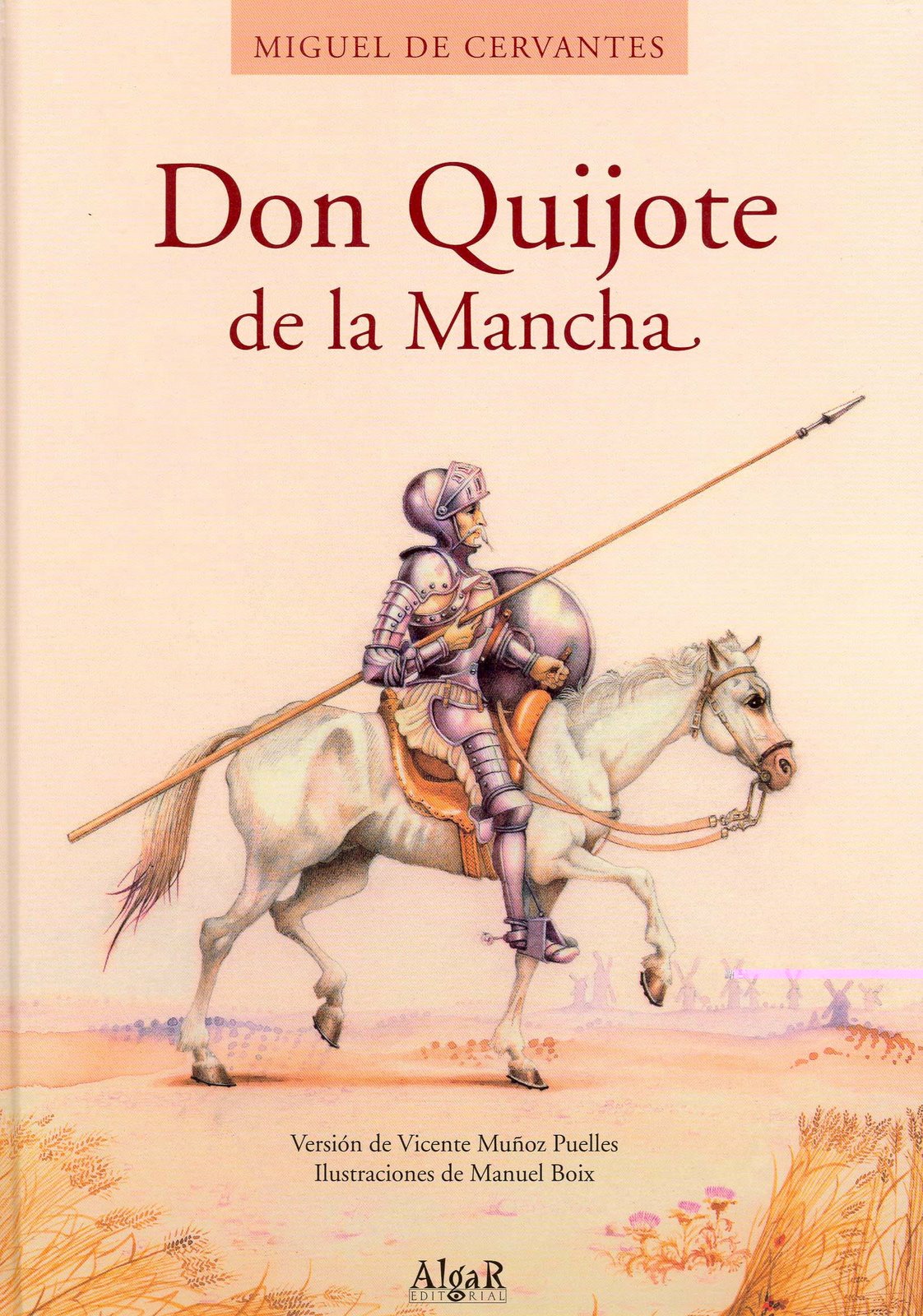
 Увеличить Увеличить |
Глава LXVI,
в коей излагается то, о чем читатель прочтет, а слушатель
услышит
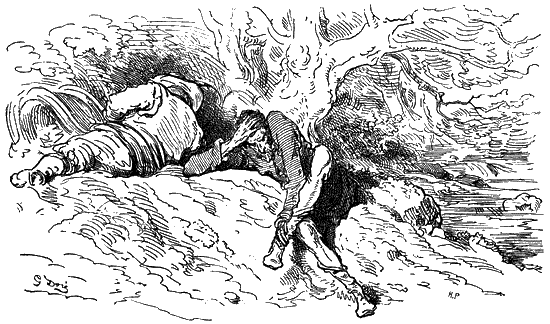
Уезжая из Барселоны, Дон Кихот обернулся и, бросив взгляд на
то место, где он свалился с коня, воскликнул:
– Здесь была Троя! Здесь моя недоля, а не моя трусость
похитила добытую мною славу, здесь Фортуна показала мне, сколь она изменчива,
здесь помрачился блеск моих подвигов, одним словом, здесь закатилась моя
счастливая звезда и никогда уже более не воссияет!
Послушав такие речи, Санчо сказал:
– Доблестным сердцам, государь мой, столь же подобает
быть терпеливыми в годину бедствий, сколь и радостными в пору преуспеяний, и
это я сужу по себе; когда я был губернатором, я был весел, но и теперь, когда я
всего только пеший оруженосец, я тоже не унываю, потому я слыхал, что так
называемая Фортуна – это пьяная и вздорная бабенка и вдобавок еще слепая: она
не видит, что творит, и не знает, кого она низвергает, а кого возвеличивает.
– Ты изрядный философ, Санчо, – заметил Дон
Кихот, – ты весьма здраво рассуждаешь, не знаю только, от кого ты этому
научился. Полагаю, однако ж, не лишним заметить, что никакой Фортуны на свете
нет, а все, что на свете творится, доброе или же дурное, совершается не случайно,
но по особому предопределению неба, и вот откуда известное изречение: «Каждый
человек – кузнец своего счастья». Я также был кузнецом своего счастья, но я не
выказал должного благоразумия, меня подвела моя самонадеянность: ведь я же
должен был понять, что тощий мой Росинант не устоит против могучего и
громадного коня Рыцаря Белой Луны. Словом, я дерзнул, собрал все свое мужество,
меня сбросили с коня, и хотя я утратил честь, но зато не утратил, да и не мог
утратить, добродетели, заключающейся в верности своему слову. Когда я был
странствующим рыцарем, дерзновенным и отважным, я собственною своею рукою,
своими подвигами доказывал, каков я на деле, ныне же, когда я стал обыкновенным
идальго, я исполню свое обещание и тем докажу, что я господин своему слову.
Итак, вперед, друг Санчо: мы проведем этот год искуса у себя дома, накопим сил
за время нашего заточения и вновь устремимся на бранное поприще, вовеки незабвенное.
– Сеньор! – молвил Санчо. – Плестись пешком
вовсе не так приятно, я отнюдь не обуреваем страстью к большим переходам.
Давайте-ка повесим доспехи на дерево, заместо разбойника, когда же я устроюсь
на спине у серого и ноги мои перестанут касаться земли, мы сможем совершать
любые переходы, какие только ваша милость потребует и назначит, а чтобы я
пешком отмахивал большие расстояния – это вещь невозможная.
– Ты дело говоришь, Санчо, – заметил Дон
Кихот, – пусть мои доспехи висят в виде трофея, а под ними или же
где-нибудь рядом мы вырежем на древесной коре такую же точно надпись, какая была
начертана на трофее Роландовом, состоявшем из его доспехов:
Лишь тот достоин ими обладать,
Кто и Роланду бой решится дать.
– Чудо как хорошо, – заметил Санчо, – и если
б Росинант не нужен был нам в пути, то и его не худо было бы подвесить.
– Нет, – сказал Дон Кихот, – нельзя
подвешивать ни Росинанта, ни мои доспехи, а то станут про меня говорить:
«Так-то он платит за верную службу?»
– Совершенная правда, ваша милость, – согласился
Санчо. – Умные люди считают, что не должно вину осла перекладывать на седло,
в том же, что произошло, виновата ваша милость, а посему и наказывайте себя
самого, но не вымещайте свою досаду ни на поломанных и окровавленных доспехах,
ни на смирном Росинанте, ни на моих нежных ногах и не требуйте, чтобы они топали
больше того, что им положено.
В подобных беседах и разговорах прошел у них весь этот день,
равно как и следующие четыре, во все продолжение коих ничто не задерживало их в
пути, на пятый же день, достигнув некоего селения, они увидели, что возле
постоялого двора собралась толпа: то веселился народ по случаю праздника. Когда
Дон Кихот приблизился к толпе, один из крестьян, возвысив голос, молвил:
– Эти два сеньора только сейчас приехали, никого здесь
не знают, давайте попросим кого-нибудь из них рассудить наш спор.
– Я готов, – сказал Дон Кихот, – постараюсь
рассудить по справедливости, если только постигну суть вашего спора.
– Дело, господин хороший, состоит вот в чем, –
начал крестьянин, – один наш односельчанин, – он у нас толстяк и
весит одиннадцать арроб, – вызвал на состязание в беге своего соседа, а
тот весит всего только пять. По условию они должны с одинаковым грузом
пробежать расстояние в сто шагов. Когда же вызвавшего на состязание спросили,
как уравнять грузы, он сказал: пусть, мол, вызванный на состязание, который
весит пять арроб, нагрузит на себя шесть арроб железа. Таким, дескать, образом
вес толстого и вес худого уравняются: выйдет, что и у того и у другого по
одиннадцати арроб.
– Нет, так нельзя, – прежде чем Дон Кихот успел
что-нибудь ответить, вмешался Санчо. – Всем известно, что я еще на днях
был губернатором и судьею, стало быть, мне и надлежит рассудить вас и вынести
решение.
– Вот и отлично, друг Санчо, слово за тобой, –
сказал Дон Кихот, – я же сейчас ровно ни на что не годен: в голове у меня
все спуталось и смешалось.
Получив дозволение, Санчо обратился к крестьянам с речью, а
те сгрудились вокруг него в ожидании приговора и разинули рты.
– Братцы! Требование толстого лишено здравого смысла и
даже тени справедливости, потому это уж так заведено и все это знают, что
вызванный на поединок имеет право выбирать род оружия, а стало быть, нельзя
допустить, чтобы толстый выбирал такое оружие, которое заведомо помешает и не
даст худому одолеть. Так вот вам мое мнение: пусть-ка толстый, вызвавший худого,
подрежет себя, подчистит, подскоблит, подукоротит и подточит в любой части
своего тела, где ему только вздумается и заблагорассудится, и убавит мяса на
шесть арроб, после этого в нем останется всего только пять арроб весу, и он
сравняется со своим противником и точка в точку к нему подойдет: ведь противник
весит как раз столько, – вот тогда пускай себе и бегут на равных условиях.
– Ах ты, чтоб тебе пусто было! – выслушав приговор
Санчо, воскликнул один из крестьян. – Этот сеньор рассуждает, как святой,
и разрешает споры не хуже любого каноника! Но только вот беда, я могу ручаться,
что толстый унцию мяса с себя не срежет, а не то что шесть арроб.
– Пусть лучше совсем не бегают, – заметил
другой, – худому не к чему надрываться, а толстому себя кромсать, –
половину заклада давайте потратим на вино, пригласим этих сеньоров в хорошую
таверну, и крышка делу.
– Благодарю вас, сеньоры, – молвил Дон
Кихот, – но я не могу задерживаться ни на секунду: грустные мысли и
печальные события принуждают меня быть неучтивым и торопят меня.
С этими словами, дав Росинанту шпоры, он поехал дальше,
крестьяне же не могли не подивиться как необычной его наружности, невольно
бросавшейся в глаза, так и рассудительности его слуги; надобно заметить, что
Санчо они приняли именно за слугу. И один из них молвил:
– Если так умен слуга, каков же должен быть господин!
Бьюсь об заклад, что если они едут учиться в Саламанку, то потом попадут прямо
в столичные алькальды. Учиться и учиться – вот что нужно, остальное все ерунда;
ну, конечно, надобно еще, чтобы тебе порадели и чтобы тебе повезло: глядишь, в
один прекрасный день у тебя в руке жезл, а то и митра на голове.
Эту ночь господин и слуга провели в поле, на вольном воздухе
и под открытым небом, а на другой день, едучи своею дорогою, заметили, что навстречу
идет человек с сумой за плечами и то ли с копьецом, то ли с дротиком в руке –
неотъемлемою принадлежностью пешего почтальона; подойдя к Дон Кихоту на более
близкое расстояние, прохожий внезапно ускорил шаг и, почти бегом устремившись к
нему, поцеловал его в правую ляжку, ибо выше он достать не мог, а затем,
чрезвычайно, по-видимому, обрадовавшись, воскликнул:
– Ах, сеньор Дон Кихот Ламанчский! Как же будет доволен
герцог, мой господин, когда узнает, что ваша милость возвращается к нему в
летний дворец! Ведь он с сеньорой герцогиней все еще там.
– Я вас не знаю, друг мой, – объявил Дон
Кихот, – и так и не буду знать, пока вы мне сами не скажете.
– Сеньор Дон Кихот! – отвечал гонец. – Я
Тосилос, лакей герцога, моего господина, тот самый, который не захотел с вашей
милостью биться из-за женитьбы на дочке доньи Родригес.
– Господи боже мой! – воскликнул Дон Кихот. –
Неужели вы и есть тот самый человек, которого волшебники, мои недоброжелатели,
обратили, как вы сказали, в лакея, дабы лишить меня чести победителя?
– Полно, досточтимый сеньор! – сказал
посланец. – Не было тут никакого волшебства, и нимало я не изменился
лицом: выехал я на арену лакеем Тосилосом и таким же точно лакеем Тосилосом с
нее удалился. Я порешил жениться без всякого сражения просто потому, что
девушка мне приглянулась, однако ж расчеты мои не оправдались: не успела ваша
милость выехать за ворота, как герцог, мой господин, велел отсчитать мне сотню
розог за то, что я не выполнил распоряжений, которые мне были даны перед боем,
и кончилось дело тем, что девица ушла в монахини, донья Родригес переехала в
Кастилию, а меня мой господин послал в Барселону с письмами к вице-королю. Коли
вашей милости угодно доброго вина, хотя и тепловатого, то у меня с собой тыквенная
фляга с крепким вином и несколько ломтиков трончонского сыру, способного
вызвать и пробудить жажду в случае, если она заснула.
– Предложение принято, – объявил Санчо. –
Всякие церемонии – побоку. А ну, давай выпьем, добрый Тосилос, назло и
наперекор всем заморским волшебникам!
– В таком случае, Санчо, – заметил Дон
Кихот, – ты величайший чревоугодник в мире и величайший из остолопов,
какие только есть на земле, ибо ты не в состоянии постигнуть, что гонец сей
заколдован и что это поддельный Тосилос. Оставайся с ним и напихивай свою утробу,
а я медленным шагом поеду вперед, чтобы ты мог меня догнать.
Тосилос засмеялся, вынул флягу, извлек сыр, достал хлебец, а
затем он и Санчо в мире и согласии уселись на зеленой травке и единым духом
справились и покончили со всем содержимым сумы и даже облизали пакет с письмами
только потому, что он пропах сыром. Подзакусив, Тосилос сказал Санчо:
– Такой человек, как твой господин, друг Санчо,
непременно должен быть сумасшедшим.
– Как так должен? – вскричал Санчо. – Никому
он ничего не должен, он за все расплачивается, тем более что монета его –
чистое безумие. Я это хорошо вижу и сколько раз ему говорил, да что проку? А уж
теперь и подавно: ведь он совсем повредился в уме после того, как его одолел
Рыцарь Белой Луны.
Тосилос попросил рассказать, как это произошло, однако ж
Санчо ответил, что неудобно заставлять своего господина ждать, – в другой
раз, дескать, когда они еще как-нибудь встретятся. Затем, стряхнув крошки с
одежды и с бороды, он встал, простился с Тосилосом и, погнав серого вперед,
вскоре увидел своего господина, который его дожидался под сенью древа.
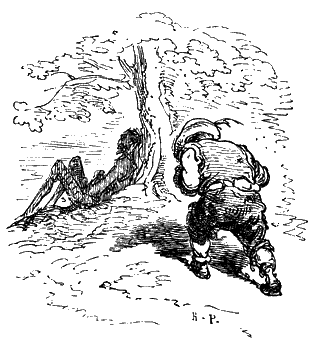
|


