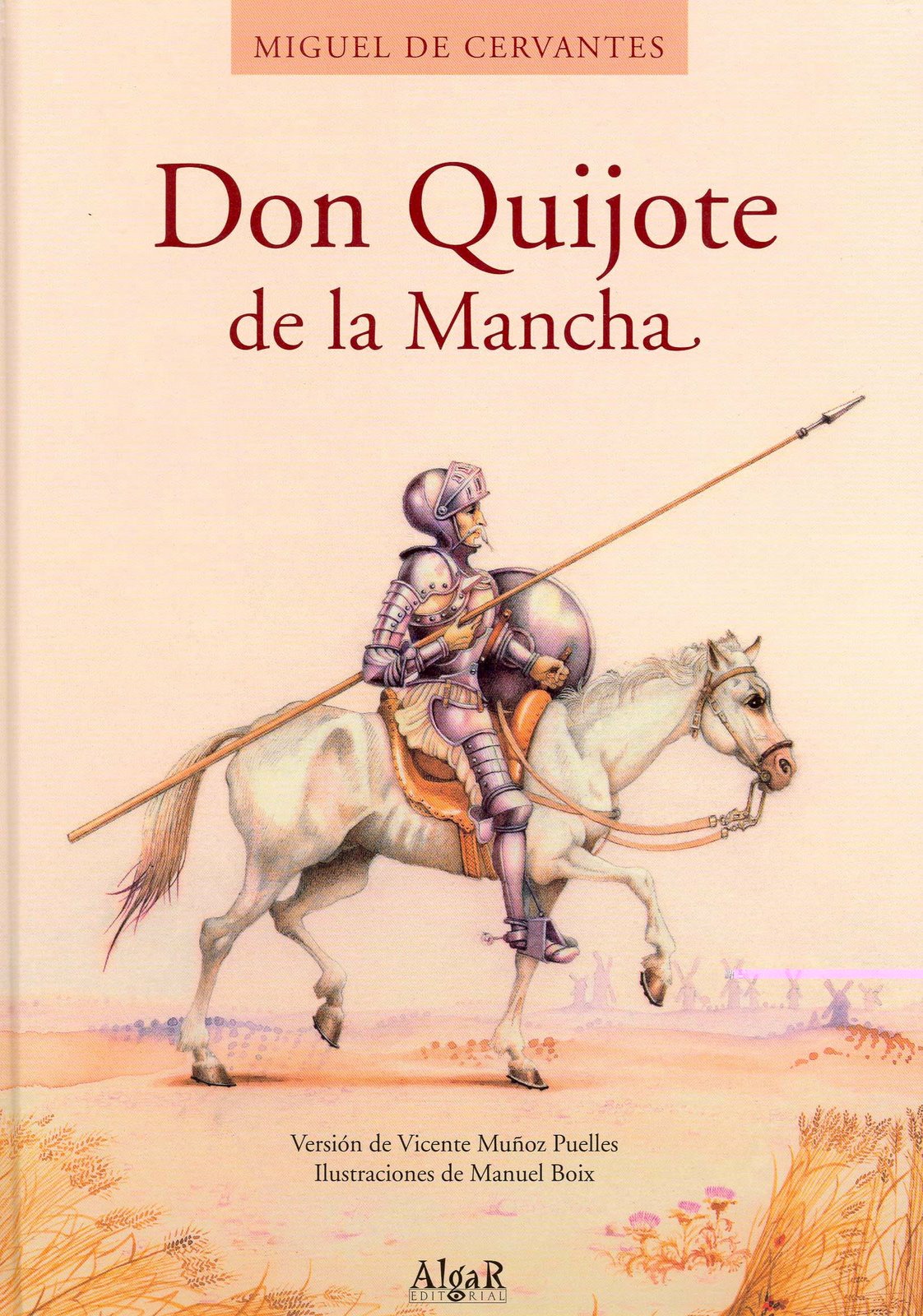
 Увеличить Увеличить |
Глава XXI,
в коей продолжается свадьба Камачо и происходят другие
занятные события
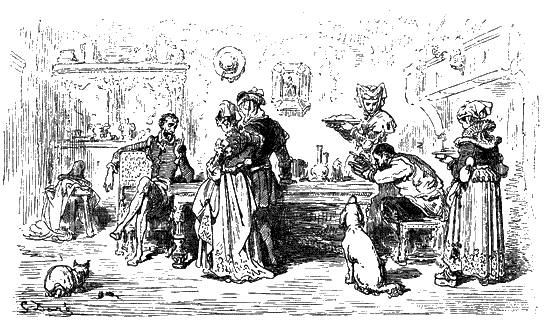
В то время как Дон Кихот и Санчо вели между собой разговор,
приведенный в главе предыдущей, послышались громкие голоса и великий шум; подняли
же этот шум и крик поселяне, прибывшие сюда на кобылицах; теперь они во весь
дух мчались навстречу новобрачным, которые с толпою музыкантов и затейников
приближались в сопровождении священника, родни и наиболее именитых жителей
окружных селений, и на всех участниках этого шествия были праздничные наряды.
Как скоро Санчо увидел невесту, то воскликнул:
– Истинный бог, одета она не по-деревенски, а как
столичная модница! Верное слово, на ней не патены,[382] а, если только
глаза меня не обманывают, дорогие кораллы, и не куэнское зеленое сукнишко, а
самолучший бархат! А белая оторочка, думаете, из простого полота? Ан нет –
ей-ей, из атласа! А перстни, скажете, гагатовые? Черта с два, пропади я
пропадом, коли это не золотые колечки, да еще какие золотые-то, с жемчужинами,
белыми, ровно простокваша; каждая такая жемчужина дороже глаза. А волосы-то,
мать честная! Если только они не накладные, то я таких длинных и таких
золотистых отродясь не видывал. А ну-ка попробуйте найдите изъян в стройном ее
стане! Да ведь это же ни дать ни взять пальма, у которой ветки осыпаны
финиками, а на финики смахивают все эти финтифлюшки, что в волосах у нее и на
шее. Клянусь спасением души, это девка бедовая, – такая нигде не пропадет.
Дон Кихота насмешила эта деревенская манера хвалить, однако
ж и он пришел к заключению, что, не считая его госпожи Дульсинеи Тобосской, он
никогда еще не видел подобной красавицы. Легкая бледность покрывала лицо
прекрасной Китерии – должно полагать, оттого, что она, как все невесты,
убиралась к венцу и плохо спала эту ночь. Шествие направилось к сооруженному
неподалеку, на этой же самой лужайке, и украшенному ветками и крытому коврами
помосту, где надлежало быть венчанию и откуда можно было смотреть на игры и
танцы; и только все приблизились к помосту, как сзади послышался громкий голос,
произнесший такие слова:
– Остановитесь, люди торопкие и опрометчивые!
При звуках этого голоса и при этих словах все повернули
головы и увидели, что слова эти произнес мужчина в черном камзоле с шелковыми,
по-видимому, нашивками в виде языков пламени. На голове у него (как это вскоре
заметили) был траурный венок из ветвей кипариса, в руке он держал длинный
посох. Едва лишь он приблизился, все узнали в нем молодца Басильо и, почуяв,
что его появление в такую минуту предвещает недоброе, замерли в ожидании, не
постигая, к чему ведут эти выкрики и слова.
Наконец, выбившийся из сил и запыхавшийся, он остановился
прямо против молодых, воткнул в землю посох с наконечником из стали, побледнел,
обратил взор на Китерию и заговорил хриплым и прерывающимся голосом:
– Тебе хорошо известно, жестокосердная Китерия, что по
законам святой веры, которую мы исповедуем, ты, покуда я жив, ни за кого выйти
замуж не властна. Вместе с тем для тебя не составляет тайны, что в ожидании той
поры, когда время и собственные мои усилия упрочат наконец мое благосостояние,
я продолжал соблюдать приличия, чести твоей подобающие, ты же, нарушив свой
долг по отношению к доброму моему намерению, желаешь отдать себя в распоряжение
другого, хотя должна принадлежать мне, – в распоряжение человека, который
настолько богат, что даже счастье, а не только земные блага, может себе купить.
И вот, дабы счастье его было полным (хотя я и не думаю, чтобы он его
заслуживал, но, видно, так уж угодно небу), я своими собственными руками
устраню препоны и затруднения, мешающие его счастью, и уйду прочь с дороги.
Много лет здравствовать богатому Камачо с бесчувственною Китерией, и да умрет
бедняк Басильо, коего свела в могилу бедность, подрезавшая крылья его
блаженству!
С этими словами Басильо схватился за воткнутый в землю
посох, после чего нижняя его часть осталась в земле, и тут оказалось, что это –
ножны, а в ножнах спрятана короткая шпага; воткнув же в землю один конец шпаги,
представлявший собою ее рукоять, Басильо с безумною стремительностью и непреклонною
решимостью бросился на острие, мгновение спустя окровавленное стальное лезвие
вошло в него до половины и пронзило насквозь, и несчастный, проколотый
собственным своим оружием, обливаясь кровью, распростерся на земле.
Злая доля Басильо и происшедший с ним прискорбный случай
тронули сердца его друзей, и они тотчас поспешили ему на помощь; Дон Кихот,
оставив Росинанта, также бросился к нему, поднял его на руки и удостоверился,
что он еле дышит. Хотели было извлечь шпагу, однако ж священник, при сем
присутствовавший, сказал, чтобы до исповеди не извлекали, а то, мол, если
извлечь, Басильо сейчас же испустит дух. Между тем Басильо стал подавать
признаки жизни и произнес голосом жалобным и слабым:
– Если б ты пожелала, бессердечная Китерия, в смертный
мой час отдать мне свою руку в знак согласия стать моею женою, я умер бы с
мыслью о том, что безрассудство мое имеет оправдание, ибо благодаря ему я
достигнул блаженства быть твоим.
На это священник сказал Басильо, что ему должно помышлять о
спасении души, а не о плотских прихотях, и горячо молить бога простить ему его
грехи и отчаянный его шаг. Басильо объявил, что ни за что не станет
исповедоваться, покуда Китерия не отдаст ему своей руки, ибо только эта радость
укрепит, дескать, волю его и подаст ему силы к исповеди.
Дон Кихот, услышав слова раненого, громко объявил, что
просьба его вполне законна и разумна и к тому же легко исполнима и что если
сеньор Камачо вступит в брак с сеньорой Китерией как со вдовою доблестного
Басильо, то он будет пользоваться таким же уважением, как если бы принял ее из
рук отца:
– Сейчас требуется лишь сказать «да», и выговорить это
слово невесту ни к чему не обязывает, оттого что для жениха брачною постелью
явится могила.
Камачо все это слышал, и все это приводило его в такое
недоумение и смущение, что он не знал, как быть и что отвечать; однако ж друзья
Басильо столь упорно добивались его согласия на то, чтобы Китерия отдала
умирающему руку, а иначе, мол, Басильо, безутешным отойдя в мир иной, погубит
свою душу, что в конце концов уговорили, а вернее, принудили его объявить, что
если Китерия согласна, то он противиться не станет, ибо исполнение его желаний
будет отдалено лишь на мгновенье.
Тут все подбежали к Китерии и кто мольбами, кто слезами, кто
вескими доводами попытались убедить ее отдать руку бедному Басильо, она же
казалась бесчувственнее самого мрамора и недвижнее статуи и, по-видимому, не
знала, что говорить, да и не могла и не хотела держать ответ, и так бы и не
ответила, когда бы священник ей не сказал, что надобно решаться, ибо у Басильо
душа уже расстается с телом, и что неопределенности этой пора положить конец.
Тогда прекрасная Китерия, ни слова не говоря, смятенная, по виду печальная и
томимая раскаянием, направилась к Басильо, а тот, уже закатив глаза, дышал
прерывисто и часто, шептал еле слышно имя Китерии и по всем признакам собирался
умереть как язычник, а не как христианин. Китерия приблизилась к нему,
опустилась на колени и без слов, знаками попросила его протянуть ей руку. Басильо
открыл глаза и, глядя на нее в упор, молвил:
– О Китерия! Ты пришла доказать, сколь ты
сострадательна, в тот миг, когда сострадание твое явится для меня ножом,
пресекающим жизнь мою, ибо я не в силах наслаждаться блаженством, которое мне доставляет
мысль, что я твой избранник, как не в силах я прекратить мои мучения, ибо
зловещая тень смерти поспешно заволакивает мне очи. Об одном я молю тебя, о роковая
звезда моя: если ты просишь у меня руку и желаешь отдать мне свою, то пусть это
будет не из милости и не для того, чтобы снова ввести меня в обман, – нет,
признай и объяви, что ты добровольно протягиваешь мне ее как законному своему
супругу, ибо нехорошо в такую минуту меня обманывать и притворяться передо
мной, меж тем как я всегда был с тобой правдив до конца.
Произнося эти слова, он неоднократно лишался чувств, и
окружающие опасались, что еще один такой обморок – и он отдаст богу душу.
Китерия, вся воплощенная скромность и стыдливость, вложила правую свою руку в
руку Басильо и сказала:
– Никакая сила в мире не могла бы сломить мою волю.
Итак, я вполне добровольно отдаю тебе руку в знак согласия стать законною твоею
супругою и принимаю твою, если только ты мне ее отдаешь по собственному желанию
и рассудок твой не приведен в смятение и расстройство тем бедствием, которое ты
терпишь через поспешное свое решение.
– Я отдаю тебе свою руку, – отвечал
Басильо, – не будучи ни смятенным, ни помешанным, но в том здравом уме,
которым небу угодно было меня наделить, и вот таким я отдаюсь и вверяюсь тебе
как твой супруг.
– А я – как твоя супруга, – подхватила
Китерия, – все равно, проживешь ли ты много лет или же тебя из моих
объятий перенесут в могилу.
– Для тяжелораненого этот парень слишком много
разговаривает, – заметил тут Санчо Панса, – скажите ему, чтоб он
прекратил объяснения в любви, пусть лучше о душе подумает: мне сдается, что она
у него не желает расставаться с телом, а все вертится на языке.
Итак, Басильо и Китерия взяли друг друга за руки, а
священник, растроганный до слез, благословил их и стал молиться о упокоении
души новобрачного, новобрачный же, как скоро получил благословение, с
неожиданною легкостью вскочил и с необычайной быстротою извлек шпагу, для
которой ножнами являлось его собственное тело. Все присутствовавшие подивились
этому, а иные, отличавшиеся не столько сметливостью, сколько простодушием,
стали громко кричать:
– Чудо! Чудо!
Однако ж Басильо объявил:
– Не «чудо, чудо», а хитрость, хитрость!

Священник, растерянный и сбитый с толку, бросился к нему и,
пощупав обеими руками рану, обнаружил, что лезвие прошло не через мякоть и
ребра, а через железную трубочку, в этом месте искусно прилаженную и
наполненную кровью, которая, как потом выяснилось, не сворачивалась, оттого что
была особым образом изготовлена. В конце концов священник, Камачо и почти все
присутствовавшие догадались, что их одурачили и провели за нос. Невесту шутка
эта, по-видимому, не огорчила, – напротив, услышав разговоры, что брак ее
совершился обманным путем и потому не может считаться действительным, она
объявила, что не берет своего слова назад, из чего все вывели заключение, что
Китерия и Басильо сами все это замыслили и были друг с дружкою в заговоре;
Камачо же и его свидетели рассвирепели и, решившись применить оружие, дабы
отомстить сопернику, обнажили множество шпаг и ринулись на Басильо, однако в то
же мгновение в защиту Басильо было обнажено почти столько же шпаг, и сам Дон
Кихот верхом на коне, с копьем в руках и как можно лучше заградившись щитом,
проложил себе дорогу и выехал вперед. Санчо, которого такие нехорошие дела
никогда не радовали и не забавляли, укрылся под сенью котлов, с которых он
только что снял смачные пенки, ибо он был уверен, что это место свято и должно
внушать к себе благоговение. Дон Кихот между тем громким голосом заговорил:
– Остановитесь, сеньоры, остановитесь! Никто не вправе
мстить за обиды, чинимые нам любовью. Примите в рассуждение, что любовь и война
– это одно и то же, и подобно как на войне прибегать к хитростям и ловушкам,
дабы одолеть врага, признается за вещь вполне дозволенную и обыкновенную, так и
в схватках и состязаниях любовных допускается прибегать к плутням и подвохам
для достижения желанной цели, если только они не унижают и не позорят предмета
страсти. Китерия была суждена Басильо, а Басильо – Китерии: таково было правое
и благоприятное решение небес. Камачо богат, и то, что ему приглянется, он
может купить где, когда и как ему вздумается. У Басильо же, как говорится, одна-единственная
овечка, и никто не властен отнять ее у него, как бы ни был он могуществен,
ибо что бог сочетал, того человек да не разлучает, а кто попытается это
сделать, тому прежде надлежит изведать острие моего копья.
И тут он с такой силой и ловкостью начал размахивать своим
копьецом, что навел страх на всех, кто его не знал; и так глубоко запало в душу
Камачо пренебрежение, выказанное к нему Китерией, что он мгновенно выкинул ее
из сердца, и потому увещания священника, человека рассудительного и добропорядочного,
возымели успех и подействовали на Камачо и его сторонников таким образом, что
они смирились и успокоились, в знак чего вложили шпаги в ножны, и теперь они
уже не столько порицали Басильо за его хитроумие, сколько Китерию за ее
нестойкость; Камачо же рассудил, что если Китерия еще в девушках любила
Басильо, то она и выйдя замуж продолжала бы его любить, и что ему, Камачо,
должно благодарить бога за то, что он лишился Китерии, но ни в коем случае не
роптать.
Как же скоро Камачо и вся его дружина утешились и смирились,
то успокоилась и дружина Басильо, а богач Камачо, чтобы показать, что он не
сердится на шутку и не придает ей значения, вознамерился продолжать веселье,
как если б это в самом деле была его свадьба, однако ж Басильо, его невеста и
все их приверженцы не пожелали на этих празднествах присутствовать и отправились
в деревню, где жил Басильо, ибо и у бедняков, если только они люди
добродетельные и благоразумные, находятся друзья, которые их сопровождают,
почитают и защищают, подобно как у богачей всегда находятся льстецы и
прихвостни.
Дружина Басильо пригласила к себе и Дон Кихота, ибо нашла,
что это человек достойный и отнюдь не робкого десятка. Один лишь Санчо пал
духом, убедившись, что ему не бывать на роскошном праздничном пиру у Камачо,
каковой пир, кстати сказать, зашел потом за ночь; по сему случаю, удрученный и
унылый, следовал он за своим господином и за всей компанией Басильо, покидая
котлы египетские,[383]
коих образ он, однако, уносил в душе, пенки же, увозимые им с собою в кастрюле,
пенки, с которыми он почти справился и которые почти прикончил, олицетворяли
для него все великолепие и изобилие утраченных благ; и так, задумчивый и
хмурый, хотя и не голодный, верхом на сером двигался он вослед за Росинантом.
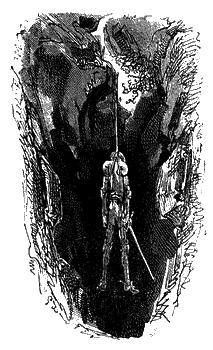
|


