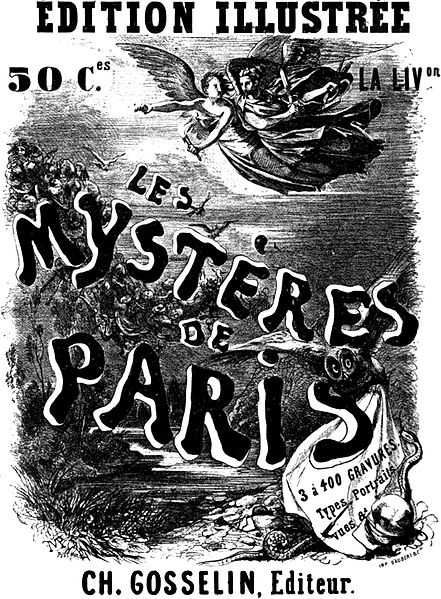
 Увеличить Увеличить |
Глава IV
БЮДЖЕТ ХОХОТУШКИ
Ночью
шел снег, а потом задул очень холодный ветер; обычно слякотная мостовая стала
почти сухой. Хохотушка и Родольф направились к огромному и единственному в
своем роде базару, который называли «Тампль». Девушка опиралась на руку своего
кавалера и откровенна льнула к нему, как будто их давно уже связывала интимная
интрига.
– Ну
какая она смешная, эта мамаша Пипле! – заметила гризетка.
– Ей-богу,
соседушка, по-моему, она права – ответил Родольф.
– А
в чем она права, сосед?
– Она
сказала: «Да здравствует боже!»
– Ну
так что?
– Вот
и я так же думаю…
– Не
понимаю…
– Я
бы тоже хотел воскликнуть: «Да здравствует любовь», но… с вами, и пошел бы…
куда вы меня поведете.
– Верю
вам, вы не очень упрямы.
– Что
же в том плохого? Ведь мы соседи!
– Если
бы не были соседями, я бы не вышла с вами вот так, под ручку.
– Значит,
я могу надеяться?
– На
что надеяться?
– Что
вы меня полюбите.
– Я
вас уже люблю.
– В
самом деле?
– Это
ведь очень просто: вы добрый и веселый. Хоть и сами бедны, вы делаете все, что
можете, для несчастных Морелей, взывая к богачам, чтобы они сжалились над
бедняками; у вас хорошее лицо и вежливое обхождение, а мне это приятно и льстит
мне: кто подает мне руку, тот получает мою. Я думаю, достаточно причин полюбить
вас.
Хохотушка
весело рассмеялась и вдруг воскликнула:
– Посмотрите
на эту толстушку, вот ту, в ее сапожках на меху! Похоже, она тащит на ногах
двух кошек без хвоста!
И она
снова расхохоталась.
– Я
предпочитаю смотреть на вас, милая соседка. Я так счастлив, что вы меня уже
полюбили.
– Я
вам говорю это, потому что так оно и есть. Если бы вы мне не нравились, я бы
вам тоже это сказала. Я никогда никого не обманывала и не была
кокеткой-притворяхой. Когда кто-то мне нравится, я это сразу говорю…
Внезапно
остановившись перед лавкой старых вещей, гризетка воскликнула:
– Ох,
посмотрите на эти грубые часы с маятником и на эти две прекрасные вазы! Я уже отложила
три ливра и десять су – они у меня в копилке. Лет через пять-шесть я смогу
купить себе такие же.
– Значит,
вы даже откладываете? А сколько же вы зарабатываете, соседушка?
– Самое
малое тридцать су в день, а иногда и сорок. Но я рассчитываю только на
тридцать, так будет осторожнее, и трачу не больше, – ответила Хохотушка с
такой серьезностью, словно речь шла, о равновесии государственного бюджета.
– Но
как же вы можете жить на тридцать су в день?
– Рассчитать
не долго… Хотите, я расскажу вам, сосед? Похоже, вы мот по натуре, так это вам
будет примером.
– Да
что вы, соседушка!
– Мои
тридцать су в день – это значит сорок пять франков в месяц, не так ли?
– Правильно.
– Из
них двенадцать франков уходит за комнату и двадцать три на еду.
– На
еду… двадцать три франка?
– О
господи, ну примерно столько! Признайтесь, что для такой крохотули, как я, и
это слишком много. Кстати, я себе ни в чем не отказываю.
– Маленькая
лакомка!
– И
включите сюда моих чижиков.
– Да,
понятно, если вас трое, то это уже и так разорительно. Но расскажите подробнее…
чтобы я мог поучиться.
– Так
слушайте: фунт хлеба – это четыре су, на два су молока, на четыре су зимних
овощей, а летом – фрукты и салат; обожаю салат, его легко приготовить и он не
пачкает руки; значит, это шесть су; на три су масла сливочного или оливкового и
еще немного уксуса для приправы – итого тринадцать! И еще – ведро чистой воды –
это роскошь, которую я себе позволяю, с вашего разрешения, значит, уже
пятнадцать су… Прибавьте к этому два-три су в неделю на конопляное семя и
птичью смесь для моих чижей, чтобы их порадовать, а обычно они клюют хлебный мякиш,
размоченный в молоке, – и все на двадцать су, двадцать три франка в месяц,
ни больше, ни меньше.
– И
вы совсем не едите мяса?
– Мяса?
Да ведь оно же стоит десять – двенадцать су за фунт! Я о нем и не думаю. А потом,
когда оно варится, от него такой запах, вся комната пропахнет… А вот молоко,
овощи, фрукты можно приготовить быстро. Знаете, что я больше всего люблю? Это
так просто, я так вкусно это готовлю!
– Что
же это за блюдо?
– Я
кладу желтенькие чистенькие картошечки на противень – и в печку, а когда они
испекутся, я их растолку, добавлю немного масла, чуть-чуть молока и щепотку
соли, и… это пища богов! Если будете вести себя хорошо, я вас угощу.
– Если
вы все приготовите вашими прелестными ручками, это, наверное, будет восхитительно.
Но постойте, соседушка, давайте посчитаем… У нас уже вышло двадцать три франка
на еду и двенадцать франков за комнату, итого тридцать пять франков в месяц…
– Чтобы
дойти до сорока пяти или пятидесяти франков, которые я зарабатываю, мне остается
потратить еще десять – пятнадцать франков на дрова и на масло для лампы зимой,
и еще на одежду и на стирку, то есть на мыло, потому что, кроме простыней, я
все стираю сама, – это тоже моя роскошь! Если бы я все отдавала прачке, я
бы осталась голой! А я сама стираю, и глажу очень даже неплохо, и обхожусь! За
пять зимних месяцев у меня уходит пять с половиной охапок дров и масла для
лампы на четыре-пять су, значит, всего примерно восемьдесят франков в год на
тепло и свет.
– Таким
образом, у вас остается в лучшем случае сто франков, чтобы одеваться?
– Да,
и прибавьте еще к этому сэкономленные три франка и десять су.
– Но
ваши платья, ваши ботиночки, этот прелестный чепчик?
– Мои
чепчики? Я их надеваю, только когда выхожу, и они меня не разорят, потому что я
их шью сама. А дома – зачем мне чепчики с такой копной волос? А платья и
ботиночки – разве нет рядом Тампля?
– Ах
да, благословенный Тампль! Значит, вы там находите…
– Превосходные
платья, и очень красивые. Представьте, знатные дамы завели обычай дарить свои
старые платья горничным… Когда я говорю «старые», это значит, что они поносили
их с месяц-другой, да и то разъезжали в каретах, а горничные тут же их продают
в Тампле… почти даром. Вот, глядите, на мне платье превосходной шерсти цвета
коринфского винограда. Мне оно обошлось всего в пятнадцать франков, а стоило не
меньше шестидесяти, и оно почти не ношенное. Я его подогнала по себе и надеюсь,
оно мне делает честь.
– Это
вы ему делаете честь, соседушка!.. Однако со всеми чудесами вашего Тампля я начинаю
понимать, как вы можете одеваться всего на сто франков в год.
– Трудно
поверить, правда? Там продают чудные летние платьица всего за пять-шесть
франков, полуботиночки, ну вот как у меня, почти новенькие, за два или три
франка. Поглядите, они как на меня пошиты! – воскликнула Хохотушка,
останавливаясь и показывая в самом деле отлично обутую ножку.
– Ножка
прелестная, ничего не скажешь, на такую, наверное, нелегко найти туфельки… Но
если вы мне скажете, что в этом Тампле продают и детскую обувь…
– Ох,
какой же вы льстец, сосед. Но признайтесь все-таки, что маленькая, одинокая и разумная
девушка может прожить и на тридцать су в день! Надо, правда, сказать, что эти
четыреста пятьдесят франков, которые я получила, выходя из тюрьмы, мне очень
помогли устроиться… Когда люди видели комнатку со всей этой мебелью, они
доверяли мне и давали работу на дом. Но не сразу, не сразу. По счастью, у меня
еще оставались деньги, и я могла прожить три месяца и без работы.
– У
вас такое озорное личико, и кто бы подумал, что у вас столько рассудительности
и расчета?
– Господи,
когда ты одна на всем белом свете и когда не хочешь ни от кого зависеть, приходится
быть расчетливой и, как говорят, вить свое гнездо.
– А
ваше гнездышко прелестно!
– Правда?
Ведь, в конце концов, я себе ни в чем не отказываю. Даже за комнату плачу
больше, чем могла бы. И птички у меня, и летом две вазочки с цветами на моем
камине, и цветочки в ящиках на подоконниках и в клетке у чижиков. И при всем
при том, как я уже вам говорила, у меня уже были три франка и десять су в моей
копилке, чтобы я могла когда-нибудь купить полный набор для моего камина.
– Что
же стало с вашими сбережениями?
– Господи,
в последние дня я видела этих, бедных Морелей такими несчастными, такими
жалкими, что я сказала себе: «Нет смысла хранить в копилке три глупых монеты по
двадцать су, которые пылятся от безделья в копилке, когда честные люди рядом
умирают с голоду…» И я одолжила три франка госпоже Морель. Когда я говорю
«одолжила», то это так, чтобы не унижать ее, потому что я отдала им эти деньги
от чистого сердца.
– Вот
видите, соседушка, вы были правы, теперь у них все в порядке, и они вернут вам
этот долг.
– Да,
а самом деле, и я не откажусь. Все-таки будет какая-то зацепочка, что
когда-нибудь я смогу купить все для моего камина: решетку, щипцы… Я так об этом
мечтаю!
– Но
все-таки нужно хоть немного думать о будущем?
– О
будущем?
– Ну
если, например, заболеете…
– Я?
Заболею?..
И
Хохотушка разразилась смехом.
Она
расхохоталась так громко, что толстяк, который шел перед ними с такой же
толстой собачонкой на руках, сердито обернулся, посчитав, что смеются над ним.
Хохотушка,
не переставая смеяться, отвесила ему полупоклон с таким озорным видом, что
Родольф невольно присоединился к веселому смеху своей спутницы.
Толстяк
сердито проворчал что-то и пошел дальше.
– Да
вы что, с ума сошли, соседушка? Успокойтесь! – попытался урезонить ее
Родольф.
– Вы
сами виноваты…
– В
чем же?
– Говорите
мне такие глупости!
– Что
вы можете заболеть?
– Я?
Заболеть?
И она
снова расхохоталась.
– А
почему бы и нет?
– Неужели
я похожа на больную?
– Да
нет же, я никогда не видел такого свежего и румяного личика.
– Так
в чем же дело? Почему вы думаете, что я могу заболеть?
– Почему?
Со всеми бывает…
– В
восемнадцать лет… и при жизни, какую я веду, разве это возможно? Я встаю в пять
утра, зимой и летом, ложусь спать в десять или в одиннадцать; я ем, пусть
немного, но сколько мне хочется, не мерзну, работаю весь день и распеваю, как
жаворонок, сплю как сурок, сердце мое свободно и радостно, я всем довольна;
работы мне всегда хватает, об этом я не забочусь; так от чего же, по-вашему,
мне болеть?.. Было бы просто смешно!
И опять
она расхохоталась.
Родольф
был поражен этой слепой и благословенной верой в будущее и упрекнул себя, что
едва ее не поколебал… Он с ужасом подумал, что роковой недуг мог бы всего за
месяц погубить это радостное и мирное создание.
Глубокая
вера Хохотушки в свои восемнадцать лет и ее храбрость – ее единственное достояние
преисполнили Родольфа глубоким уважением. Святая простота!
Со
стороны юной девушки в этом не было беззаботности или непредусмотрительности: в
этом была инстинктивная вера в то, что божье милосердие и справедливость не
покинут трудолюбивое и юное создание, бедную портнишку, виноватую разве лишь в
том, что она целиком полагалась на свою молодость и здоровье, подаренные ей
небесами…
Когда
птицы небесные по весне трепещут крыльями и радостно распевают над розовой люцерной
или взмывают в теплых просторах лазури, разве думают они о грядущей суровой зиме?
– Значит,
вы ни к чему особому не стремитесь? – спросил Родольф гризетку.
– Нет.
– Абсолютно
ни к чему?
– Да
нет же… Впрочем, я ведь говорила о гарнитуре для моего камина. Он у меня обязательно
будет, только не знаю когда. Но я это вбила себе в голову, и я своего добьюсь.
Может быть, буду работать даже по ночам…
– А
кроме этого камина?..
– Ничего
мне особенно не хотелось… До сегодняшнего дня.
– Что
же случилось?
– Еще
позавчера я мечтала о соседе, который бы мне понравился… чтобы зажить с ним в
доброй дружбе, как я всегда это делала, чтобы оказывать ему небольшие услуги, я
– ему, а он – мне.
– Мы
уже договорились об этом, соседушка: вы будете заботиться о моем белье, а я –
натирать полы в вашей комнате… не говоря уже о том, что вы будете стучать мне в
перегородку, чтобы пораньше меня разбудить.
– И
вы думаете, это все?
– А
что же еще?
– Нет,
вы еще не все поняли. Разве вы не будете водить меня по воскресеньям к городским
воротам или на бульвары? Ведь это у меня единственный свободный день…
– Прекрасно,
договорились. Летом мы отправимся в деревню.
– Нет,
я терпеть не могу деревню, я люблю только Париж. Правда, я несколько раз бывала
в окрестностях Сен-Жермена да и то, чтобы угодить одной моей подружке: мы с ней
познакомились в тюрьме, и звали ее Певунья, потому что она распевала весь день.
Очень хорошая, добрая девочка.
– Что
же с ней стало?
– Право,
не знаю. Она тратила деньги, заработанные в тюрьме, без всякого удовольствия.
Всегда была печальной, но отзывчивой, милосердной… Когда мы вышли вместе, у
меня еще не было работы, а когда появились заказы, я уже не выходила из своей
комнатушки. Я дала ей мой адрес, но она ни разу не пришла ко мне; наверное, у
нее были свои дела… Так вот, мой сосед, я сказала, что люблю Париж больше
всего! Поэтому, если вы сможете, сводите меня пообедать в ресторанчик, а может
быть, порой в театр. А если у вас не будет денег, пойдемте посмотреть на
витрины в ближайших пассажах, – для меня эта такая же радость. И можете не
беспокоиться: во время этих прогулок вам не придется за меня краснеть. Вы
увидите, как я смотрюсь в моем лучшем платьице из темно-синего левантина, –
я надеваю его только по воскресеньям! Мне оно так идет, просто прелесть, да еще
при маленьком чепчике с кружевами и оранжевыми бантиками, – на моих черных
волосах они тоже глядятся неплохо, – да еще когда я в ботиночках из
турецкого сатина, сделанных на заказ, и в прелестной шали из шелковых оческов
под кашемир. Подумайте только, сосед! На нас будут все оборачиваться! Мужчины
будут говорить: «Смотрите, какая прелесть эта малышка, ей-богу, прелесть!» А
женщины: «Какая у него красивая осанка, у этого стройного высокого юноши!..
Какой у него изысканный вид… И эти черные усики так ему к лицу!..» И я буду
согласна с этими дамами, потому что обожаю усы… К несчастью, Жермен не носил
усов из-за работы в своей конторе. У Кабриона были усы, но такие же рыжие, как
его огромная борода, а я не люблю большие бороды, и к тому же он вел себя на
улице как последний мальчишка-озорник и всегда издевался над беднягой Пипле.
Вот, скажем, Жирадо, – мой сосед еще до Кабриона, – был очень видным,
но страшно косил. Вначале это меня очень смущало, потому что казалось, будто он
смотрит куда-то в сторону, мимо меня, и я все время оборачивалась, чтобы
узнать, на кого это он смотрит.
И снова
взрыв смеха.
Родольф
слушал эту болтовню с любопытством и уже третий или четвертый раз спрашивал
себя, что ему думать о Хохотушке, о ее морали.
Откровенная
речь гризетки и воспоминания об огромном засове на ее двери заставляли его
почти верить в то, что всех своих соседей она любила как сестра, как братьев,
как товарищей и что г-жа Пипле клеветала на нее, но тут же он усмехался своей
наивной доверчивости и думал, что вряд ли такая юная и одинокая девушка могла
устоять перед соблазнительными предложениями господ Жиродо, Кабриона и Жермена.
И все же откровенность, простота и неподдельная искренность Хохотушки вновь
заставляли его сомневаться.
– Вы
меня радуете, соседушка, обещая занять все мои воскресенья, – весело
подхватил Родольф. – Можете не беспокоиться, мы славно погуляем.
– Минуточку,
господин растратчик! При одном условии: кошелек будет у меня. Летом мы сможем
отлично, ну просто преотлично пообедать всего за три франка в Шартрезе или в
Эрмитаже на Монмартре, а потом – полдюжина контрдансов или вальсов, а потом –
гонки на деревянных лошадках. Ах, как я люблю сидеть на деревянных лошадках!..
И все это вам обойдется всего в сто су, и ни грошика больше… Вы танцуете вальс?
– Да,
и неплохо.
– Вот
и прекрасно! Кабрион всегда наступал мне на ноги, да еще рада шутки разбрасывал
гремучие хлопушки, поэтому нас и перестали пускать в Шартрез.
И опять
взрыв хохота.
– Можете
не беспокоиться, я сам не люблю эти хлопушки, поверьте на слово. Но что мы
будем делать зимой?
– Зимой
не так хочется есть, и мы будем обедать всего за сорок су, и нам останется три
франка на театр, поэтому я не хочу, чтобы вы тратили больше ста су, это и так
слишком много, но в одиночку вы бы истратили гораздо больше в кабачках или на
бильярд с разными проходимцами, от которых так воняет табаком, что просто ужас!
Разве не лучше провести веселый день с хорошенькой девушкой, доброй и
смешливой, которая к тому же найдет время сэкономить вам на галстуки и заботясь
о вашем хозяйстве?
– Разумеется,
соседушка, тут чистая выгода. Но вот задача, что, если мои друзья встретят меня
под ручку с моей маленькой прелестной подружкой?
– Ну
что ж, они скажут: «Повезло этому Родольфу, чертовски повезло!»
– Вы
уже знаете, как меня зовут?
– Когда
я узнала, что соседняя комната сдается, спросила, кому ее сдали.
– А
друзья мне скажут: «Повезло этому счастливчику Родольфу!» И будут мне
завидовать.
– Тем
лучше!
– Они
будут думать, что я счастлив.
– Тем
лучше, тем лучше!..
– А
если я вовсе не буду так счастлив, каким покажусь?
– Что
вам до того, главное, чтобы все в это верили. Мужчинам большего и не нужно.
– Но
ваша репутация?..
Хохотушка
звонко рассмеялась.
– Репутация
гризетки? Кто верит в эти падучие звезды? Если бы у меня был отец или мать,
сестра или брат, я бы думала, что обо мне скажут… Но я одна, и это уж мое дело…
– Но
я-то буду очень несчастлив.
– Почему
это?
– Потому
что меня будут считать счастливчиком, а я буду в самом деле любить, любить такой,
какой вы были у папы Пету, когда вы с ним пировали сухой коркой хлеба, слушая,
как он вам читает поваренную книгу.
– О
господи, какие пустяки! Вы попривыкнете. Я буду такой нежной, такой, признательной,
такой послушной, что вы сами скажете: все-таки лучше провести воскресенье с
ней, чем с каким-нибудь приятелем… И в любой день недели, если вечером вы
свободны и если вам со мной не скучно, вы можете цриходить ко мне посидеть у
печурки при свете моей лампы. Вы будете брать в книжной лавочке на время романы
и читать их мне. Лучше уж это, чем терять деньги на бильярде. А если вы долго
задержитесь у своего хозяина или засидитесь в кафе, вы всегда можете постучать
и пожелать мне спокойной ночи, если я еще не сплю. И даже если я буду спать, я
утром постучу вам в перегородку, чтобы вас разбудить, и пожелаю доброго утра…
Кстати, мосье Жермен, мой последний сосед, проводил так со мною все вечера и не
жаловался! Он прочел мне почти всего Вальтера Скотта! Это было так забавно!..
Иногда по воскресеньям, когда погода была скверная, мы не ходили гулять или в
театр; вместо этого он покупал что-нибудь вкусное, и мы устраивали настоящую
пирушку в моей комнате, а потом читали… Меня это веселило почти как в
театре. Я вам все рассказываю, чтобы вы поняли, что я совсем неприхотлива и
всегда стараюсь угодить. А раз уж вы заговорили о болезнях, если вы
когда-нибудь заболеете, я буду вам самой верной маленькой сестрой милосердия…
Можете спросить у Морелей! Вы даже не знаете, как вам повезло, господин
Родольф. Вам выпал самый большой выигрыш в лотерею, что у вас такая соседка.
– Что
правда, то правда, мне всегда везло. Кстати, а что стало с этим Жерменом? Где
он теперь?
– Наверное,
в Париже.
– Вы
его больше не видели?
– С
тех пор как он съехал, он ко мне на заходил.
– Но
где он живет? Что делает?
– К
чему все эти расспросы, сосед?
– Потому
что я ревную, – ответил Родольф, улыбаясь. – И я хотел бы…
– Ревнуете? –
Хохотушка расхохоталась. – Было бы из-за чего… Бедный малый!
– Нет,
серьезно, соседка, мне очень важно, где я могу встретить Жермена. Вы знаете,
где он живет, и, поверьте на слово, я никогда не употреблю во зло то, о чем
прошу мне сказать… Клянусь, это только в его интересах.
– А
если серьезно, сосед, то я верю, что вы желаете Жермену только добра, но он
взял с меня слово, что я никогда не дам его адреса, и я не скажу его вам,
потому что это мне невозможно… Не надо из-за этого на меня сердиться… Если бы
вы мне доверили свою тайну, вы бы, наверное, похвалили меня за то, что я храню.
– Но
все дело в том…
– Послушайте,
сосед, раз и навсегда, не надо больше об этом. Я дала слово, и я его сдержу;
что бы мне ни говорили, я отвечу то же самое: нет!
Несмотря
на все свое озорство и легкомыслие, девушка произнесла последние слова так
твердо, что Родольф, к своему великому сожалению, понял: от нее он так ничего
не добьется. А прибегать к хитрости, чтобы застать Хохотушку врасплох, ему было
неприятно. Поэтому он подождал немного и весело заговорил снова:
– Не
будем больше об этом, соседушка! Черт возьми, вы так свято храните чужие тайны,
что уж наверняка не выдадите свои собственные секреты.
– Мои
секреты? Хотелось бы мне их иметь, наверное, это забавно.
– Как,
у вас нет даже маленьких сердечных тайн?
– Сердечные
тайны?
– Но
разве вы никого не любили? – спросил Родольф, пристально глядя на гризетку
и пытаясь угадать, скажет ли она правду.
– Как
это никого? Жиродо? А Кабрион? Жермен? И вы, наконец!
– Вы
их любили больше, чем меня? То есть не так, как меня?
– О
господи! Нет, конечно, наверное, меньше, чем вас. Потому что мне приходилось мириться
с косыми глазами Жиродо, с рыжей бородой и дурацкими шуточками Кабриона и с вечной
печалью Жермена, – он всегда был такой грустный-прегрустный, этот бедный
молодой человек. А с вами все наоборот, вы мне сразу понравились…
– Послушайте,
соседушка, только не сердитесь, я спрошу вас как верный друг…
– Давайте
спрашивайте!.. У меня легкий характер… И к тому же вы так добры, что вам сердце
не дозволит спрашивать меня о том, что может меня огорчить. Я в этом уверена!
– Да,
конечно… Но скажите откровенно, у вас никогда не было любовника?
– Любовники!..
Ну да, понимаю… Но разве есть у меня на это время?
– При
чем здесь время?
– При
том. Время – самое главное. Прежде всего, я буду ревновать, как тигрица, и без
конца терзаться муками ревности. Так вот, сколько я зарабатываю? Могу я терять
каждый день по два-три часа на слезы и душевные переживания? А если мне изменят
– сколько горя, сколько страданий!.. Это вам для примера… Но одно лишь это так
уменьшит мой заработок, что страшно подумать!
– Но
не все же любовники изменяют, не все заставляют плакать своих любовниц.
– Так
это еще хуже… Если он будет слишком хорошим, разве смогу обойтись без него хоть
минуту?.. А ему, наверное, придется сидеть целый день в своей конторе, в
мастерской или в лавке, и я буду весь день слоняться, как потерянная душа, пока
он не придет… Я буду выдумывать тысячи ужасов, будто его любит другая, что
сейчас он с нею… А если он меня бросит?.. А если… мало ли что еще может со мной
приключиться? В любом случае я не смогу работать, как раньше… И что тогда со
мной станет? Сейчас я спокойна и могу работать по двенадцать-пятнадцать часов в
день, иначе мне не свести концы с концами… А представьте, что теряла бы
три-четыре дня в неделю на страдания и переживания… Как бы я нагнала потерянное
время? А никак… и пришлось бы мне к кому-нибудь в услужение идти. Но уж это
нет! Мне слишком дорога моя свобода!
– Ваша
свобода?
– Да,
я давно могла бы получить место первой швеи в хозяйкином ателье, на которую я работаю…
Мне бы платили четыреста франков, с жильем и едой…
– И
вы не соглашаетесь?
– Конечно,
нет… Я буду тогда наемной работницей, зависящей от других, а сейчас, как я ни
бедна, я хозяйка в моем бедном доме, я никому ничего не должна… Я ничего не
боюсь, я добра, я здорова и весела… У меня прекрасный сосед, я говорю о
вас, – чего еще мне нужно?
– А
вы никогда не думали о замужестве?
– О
замужестве? Я могу выйти замуж только за такого же бедняка, как я. Вы видели
несчастных Морелей? Видели, к чему это ведет? А, нет, пока ты отвечаешь только
за самое себя, можно еще дожить…
– Значит,
вы никогда не строили воздушных замков, ни о чем не мечтали?
– Нет,
почему же? Я мечтаю о гарнитуре для камина… а кроме этого… о чем я еще должна
мечтать?
– Но
если какой-нибудь дальний родственник вдруг оставит вам маленькое наследство,
ну, скажем, тысячу двести франков ренты, то для вас, с вашими пятьюстами
франками, я полагаю…
– Черт
возьми, наверное, это было бы здорово, но может быть и наоборот.
– Наоборот?
– Я
счастлива какая есть, знаю жизнь, которой живу, и не знаю той жизни, какую мне
придется вести, если я разбогатею. Вот послушайте, сосед: когда после долгого
рабочего дня я ложусь в постель, когда лампа погасла и только угольки еще тлеют
в моей печурке, я вижу при их слабом свете мою чистенькую комнату, мои
занавески, мой комод и стулья, моих птичек, мои часы и мой рабочий стол,
заваленный материей, которую мне доверили, и я говорю себе: «Наконец все это
мое, и я никому за это не обязана, кроме меня самой…» Честное слово, сосед, эти
мысли лениво меня убаюкивают, и я порой засыпаю гордая и всегда довольная
собой. Так вот, если бы все это у меня было на деньги какого-нибудь старого
дальнего родственника, я бы этим не так гордилась и не так радовалась, уверяю
вас. Но смотрите, мы уже подходим к Тамплю! Признайтесь, прекрасное зрелище!
|


