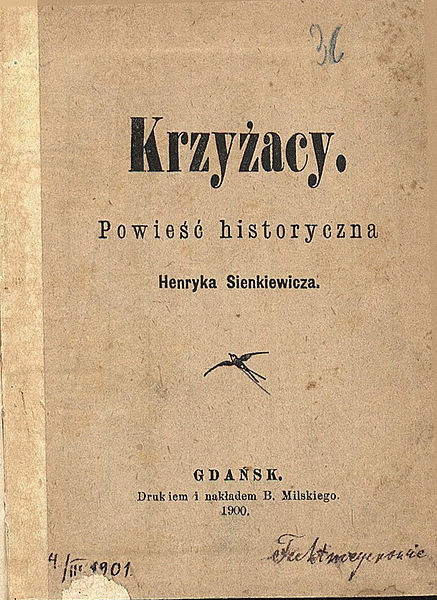
 Увеличить Увеличить |
VII
Зигфрид
де Леве собирался в Мальборк, когда почтовый служитель принес ему неожиданное
письмо от Ротгера с вестями из Мазовии.
Старый
крестоносец был живо тронут этими вестями. Прежде всего из письма было видно,
что Ротгер весьма искусно представил князю Янушу все происшествие с Юрандом и
повел дело блестяще. Зигфрид улыбнулся, читая о том, как Ротгер потребовал,
чтобы князь за обиды, нанесенные ордену, отдал во владение крестоносцам Спыхов.
Зато в другой части письма содержались неожиданные и менее благоприятные вести.
Ротгер сообщал, что для лучшего доказательства непричастности ордена к
похищению дочери Юранда он бросил перчатку мазовецким рыцарям, вызывая каждого,
кто усомнился бы в этом, на суд божий, то есть на единоборство в присутствии
всего двора… «Ни один из них не поднял перчатки, – писал Ротгер, –
ибо все знали, что за нас свидетельствует письмо самого Юранда, и все боялись
правосудия божия; но появился вдруг юноша, которого мы видали в лесном доме, и
принял мой вызов. Не удивляйтесь же, благочестивый и мудрый брат, что я вернусь
на два-три дня позже, ибо я сам бросил им вызов и должен поэтому биться. Ради
славы ордена совершил я это и надеюсь, что ни великий магистр, ни вы, благочестивый
брат, коего я почитаю и люблю, как сын, не вмените мне это в вину. Противник
мой – сущий младенец, а мне сражаться, как вы знаете, не внове, так что я во
славу ордена легко пролью его кровь, особенно с помощью Иисуса Христа,
которому, наверное, важнее те, кто носит крест его, нежели какой-то Юранд или
обиды ничтожной девки из мазурского племени!»
Зигфрида
прежде всего удивила весть, что дочь Юранда замужем. При мысли о том, что в
Спыхове может поселиться новый страшный и мстительный враг, даже старым
комтуром овладела тревога. «Ясно, – говорил он про себя,
– что
он не перестанет мстить нам, особенно если отыщет жену и она ему скажет, что
это мы похитили ее из лесного дома! Тогда сразу выйдет наружу, что мы вызвали
сюда Юранда лишь затем, чтобы погубить его, и что никто из нас и не помышлял о
том, чтобы вернуть ему дочь». Тут Зигфриду пришло на ум, что великий магистр по
письмам князя может повелеть учинить розыск в Щитно, хотя бы для того, чтобы
оправдаться перед князем. Ведь и для магистра, и для капитула было очень важно,
чтобы в случае войны с могущественным польским королем мазовецкие князья не
приняли в ней участие. Не говоря уж о том, что войско князей благодаря
многочисленности и храбрости мазовецкой шляхты представляло собой силу, которой
нельзя было пренебрегать, орден, живя в мире с мазовецкими князьями,
обеспечивал на большом протяжении безопасность своих границ и мог спокойно
собирать свои силы. В Мальборке не раз толковали об этом при Зигфриде и не раз
выражали надежду, что после победы над королем найдется повод и для вторжения в
Мазовию, а уж тогда этот край не вырвать из рук крестоносцев. Это был большой и
верный расчет, поэтому можно было быть уверенным и в том, что магистр сделает
сейчас все, чтобы не раздражать князя Януша, тем более что князь был женат на
дочери Кейстута и его труднее было привлечь на свою сторону, чем Земовита
плоцкого, жена которого, неизвестно по какой причине, всей душой предалась
ордену.
Раздумывая
обо всем этом, старый Зигфрид, который готов был на любое преступление, вероломство
и жестокость, но превыше всего любил орден и блюл его славу, обратился к своей
совести: «Не лучше ли выпустить Юранда и его дочь? Правда, тогда откроется все
вероломство и вся мерзость этого злодеяния, но позор падет на Данфельда, а его
уже нет в живых. И если даже, – думал Зигфрид, – магистр сурово
покарает меня и Ротгера за то, что мы были сообщниками Данфельда, не лучше ли
все-таки это для ордена?» Но старик вспомнил об Юранде, и злоба закипела в его
мстительном и жестоком сердце.
Выпустить
его, этого угнетателя и палача крестоносцев, победителя в стольких столкновениях,
виновника стольких поражений и срама, этого погромщика, этого убийцу Данфельда,
этого истязателя де Бергова и убийцу Майнегера, этого убийцу Готфрида и Хьюга,
который в одном только Щитно пролил больше немецкой крови, чем льется ее в
целом сражении во время войны! «Не могу! Не могу!» – повторял в душе Зигфрид, и
хищные его пальцы при одной мысли об этом судорожно сжимались в кулак, а старая
иссохшая грудь с трудом ловила воздух. «Но если это принесет ордену большую
пользу и послужит к вящей его славе? Если, покарав оставшихся в живых
виновников преступления, орден привлечет этим на свою сторону князя Януша,
своего врага, и сможет заключить с ним договор и даже, быть может, союз?..
Горячи они очень, – думал старый комтур, – но если их немного
обласкать, они скоро забывают обиды. Вот мы самого князя захватили в плен на
собственной его земле, а ведь он не стал мстить нам…» Старый комтур заходил по залу,
терзаемый сомнениями, и вдруг ему почудился голос свыше: «Внемли! Жди Ротгера».
Да! Надо ждать Ротгера. Он непременно убьет этого мальчишку, а потом надо будет
либо скрыть Юранда и его дочь, либо отдать их. В первом случае князь о них не
забудет, но, не зная точно, кто похитил девку, станет ее искать, станет
посылать письма магистру, не пытаясь уже обвинять их, а стремясь лишь
что-нибудь выведать, – и дело затянется надолго. В другом случае все они
так обрадуются, когда вернется дочь Юранда, что не захотят даже мстить за ее
похищение. «А мы всегда можем сказать, что нашли ее после того, как на нас
напал Юранд!» Эта мысль совершенно успокоила Зигфрида. Что касается самого
Юранда, то они вместе с Ротгером давно уже измыслили средство для того, чтобы
он не мог ни мстить им, ни обвинять их, даже если его придется отпустить на
волю. Жестокая душа Зигфрида радовалась, когда он думал об этом средстве. Она
радовалась и при мысли о суде божьем, который должен был свершиться в
цехановском замке. Старик нимало не сомневался в исходе смертельного боя. Он
вспомнил о ристалище в Крулевце, когда Ротгер победил двух славных рыцарей,
которые в родной своей Анжуйской стране[85]
почитались непобедимыми. Он вспомнил и об единоборстве под Вильно с польским
рыцарем, придворным Спытка из Мельштына, которого тоже убил Ротгер. И лицо его
прояснилось, а сердце исполнилось гордостью, ибо он первый водил Ротгера, и
тогда уже славного рыцаря, в походы на Литву и учил его искусству войны с этим
племенем. А теперь его сынок еще раз прольет ненавистную польскую кровь и
вернется окруженный славой. Ведь это суд божий, и с ордена теперь будут сняты
все подозрения… «Суд божий!..» На мгновение сердце старого крестоносца сжалось,
объятое страхом. Ротгер должен выйти на смертельный бой, чтобы доказать
невиновность крестоносцев; но ведь они виновны, стало быть, он будет драться за
ложь… А что, если над ним стрясется беда? Но через минуту это показалось
Зигфриду совершенно немыслимым. Ротгер не может быть побежден.
Успокоившись,
старый крестоносец стал раздумывать о том, не лучше ли было бы услать пока
Данусю в какой-нибудь отдаленный замок, на который ни при каких обстоятельствах
не могли бы учинить набег мазуры. Однако, подумав с минуту времени, он отбросил
и эту мысль. Только муж Дануси мог замыслить и учинить такой набег, а он ведь
погибнет от руки Ротгера… Потом только князь и княгиня будут выведывать,
выпытывать, писать и жаловаться, а от этого дело только запутается, никто уже
ничего не поймет, не говоря уже о бесконечной затяжке. «Пока они о чем-нибудь
дознаются, – сказал про себя Зигфрид, – я умру, а может, и дочка
Юранда состарится у нас в заточении». Не зная все же, что ему придется
предпринять вместе с Ротгером, старый крестоносец велел подготовить все к
обороне замка и к отъезду и стал ждать.
Тем
временем миновало уже два дня после того первоначального срока, когда Ротгер
обещал вернуться, затем прошел третий и четвертый день, а у щитненских ворот
все еще никто не появлялся. Только на пятый день, уже в сумерки, перед башней
привратника раздался звук рога. Зигфрид, который только что закончил свои
предвечерние занятия, тотчас послал мальчика-слугу узнать, кто прибыл.
Когда
мальчик через некоторое время вернулся, лицо у него было смущенное; но Зигфрид
ничего не заметил, так как огонь пылал в глубине камина и почти не рассеивал
мрака.
– Приехали? –
спросил старый рыцарь.
– Да! –
ответил мальчик.
Но в
голосе его прозвучали такие ноты, что крестоносец сразу встревожился и спросил:
– А
брат Ротгер?
– Привезли
брата Ротгера.
Зигфрид
поднялся с кресла. Долго держался он рукой за подлокотник, точно боясь упасть,
затем произнес сдавленным голосом:
– Подай
мне плащ.
Мальчик
набросил на плечи ему плащ; старый рыцарь овладел уже, видно, собою, сам
надвинул на голову капюшон и вышел из комнаты.
Немного
погодя он очутился во дворе замка, где уже царила тьма, и медленным шагом
направился по скрипучему снегу к саням, которые миновали ворота и остановились
неподалеку от них. Там стояла уже толпа народа и пылало несколько факелов,
которые успели принести солдаты замковой стражи. Завидев старого рыцаря, кнехты
расступились. В отблесках пламени видны были тревожные лица, тихие голоса
шептали во мраке:
– Брат
Ротгер…
– Брат
Ротгер убит…
Зигфрид
подошел к саням, на которых лежало на соломе покрытое плащом тело, и приподнял
край плаща.
– Посветите, –
велел он, откидывая капюшон.
Один из
кнехтов наклонил факел, и старый крестоносец увидел голову Ротгера, его белое
как снег, окоченелое лицо, стянутое темным платком, который завязали узлом под
подбородком, видно для того, чтобы рот покойника не остался открытым. Все лицо
как-то сжалось от этого и изменилось до неузнаваемости. Глаза были закрыты,
вокруг них и на висках виднелись синие пятна. Щеки покрылись инеем.
Среди
общего молчания долго глядел комтур на труп. А толпа глядела на комтура; все
знали, что как сына любил он покойного. Но ни единой слезы не уронил старик,
только лицо его стало еще суровей, и на нем застыло выражение холодного
спокойствия.
– Так
вот каким они его отослали! – произнес он наконец.
Однако
тут же обратился к эконому замка:
– Сколотить
до полуночи гроб и тело поставить в часовню.
– Остался
один гроб из тех, что делали для убитых Юрандом, – заметил эконом. –
Я прикажу только обить его сукном.
– И
прикройте тело плащом, – приказал Зигфрид, закрывая лицо Ротгера.
– Да
не таким, а орденским.
Через
минуту он прибавил:
– Гроба
крышкой не закрывайте.
К саням
подошли люди. Зигфрид снова надвинул на голову капюшон, но перед уходом, видно
что-то вспомнив, спросил:
– Где
ван Крист?
– Он
тоже убит, – ответил один из слуг, – но нам пришлось похоронить его в
Цеханове, труп начал уже гнить.
– Хорошо.
Он ушел
медленным шагом и, вернувшись в дом, опустился в то самое кресло, в котором застигла
его весть; лицо у него было каменное, долго сидел он не двигаясь, так что мальчик-слуга
уже забеспокоился и стал заглядывать в дверь.
Текли
часы, в замке замирало обычное движение, только со стороны часовни доносился глухой,
неясный стук молотка, а потом ничто уже не нарушало тишину, кроме окликов
сторожевых солдат.
Было уже
около полуночи, когда старый рыцарь очнулся, словно ото сна, и позвал слугу.
– Где
брат Ротгер? – спросил он.
Но
мальчика так взволновали все события, тишина и бессонница, что он, видно, не
понял старика, бросил на него тревожный взгляд и ответил дрожащим голосом:
– Я
не знаю, господин!..
А старик
улыбнулся страшной улыбкой и мягко сказал:
– Я
спрашиваю тебя, дитя мое: он уже в часовне?
– Да.
– Хорошо.
Скажи Дидериху, чтобы он пришел сюда с ключами и фонарем и ждал, пока я не
вернусь. Пусть захватит с собой и котелок с углями. Есть ли уже свет в часовне?
– Свечи
горят у гроба.
Зигфрид
надел плащ и вышел.
Придя в
часовню, он в дверях огляделся, нет ли кого, затем, тщательно заперев двери,
подошел к гробу, отставил две свечи из шести, которые горели в больших медных подсвечниках,
и опустился у гроба на колени.
Губы его
совсем не двигались, он не молился. Некоторое время он только глядел в застывшее,
но все еще прекрасное лицо Ротгера, словно тщился уловить в нем признаки жизни.
Затем в
тишине часовни он позвал приглушенным голосом:
– Сыночек!
Сыночек!
И смолк.
Казалось, он ждет ответа.
Протянув
руки, он сунул исхудалые, похожие на когти пальцы под плащ, покрывавший Ротгера,
и стал ощупывать всю его грудь – и сверху, и по бокам, и пониже ребер, и вдоль
ключиц, наконец сквозь сукно он нащупал рубленую рану, которая шла от верхней
части правого плеча к самой подмышке; вложив в рану пальцы, старик провел ими
по всей ее длине и заговорил дрожащим голосом, в котором звучала как будто
жалоба:
– О!..
Какой жестокий удар!.. А ты говорил, что он сущий младенец!.. Всю руку! Всю
руку! Столько раз поднимал ты ее на язычников в защиту ордена, а теперь
отрубила ее польская секира… И вот твой конец! И вот твой предел! Нет, не
ниспослал тебе господь своего благословения, ибо не печется он, видно, о нашем
ордене. И меня он оставил, хотя долгие годы служил я ему.
Слова
замерли у него на устах, губы задрожали, и в часовне снова воцарилось немое
молчание.
– Сыночек!
Сыночек!
В голосе
Зигфрида звучала теперь мольба, но звал он Ротгера еще тише, словно желал выпытать
у него важную и ужасную тайну.
– Если
ты еще здесь, если ты меня слышишь, дай знак; шевельни рукой или на один
краткий миг открой глаза; ноет сердце в моей старой груди… дай знак, я ведь так
любил тебя, отзовись!..
И,
опершись руками на края гроба, он вперил свой ястребиный взгляд в закрытые
глаза Ротгера и ждал.
– О,
как можешь ты отозваться, – произнес он наконец, – если холодом
могилы веет от тебя и тлетворный дух исходит от гроба. Но раз ты молчишь, я сам
тебе что-то скажу, и пусть сюда, к горящим свечам, прилетит душа твоя и
слушает.
Он
склонился к лицу трупа.
– Помнишь,
капеллан не позволил нам добить Юранда и мы дали ему клятву? Хорошо, я сдержу
клятву, но тебя я все же порадую, где бы ты ни был сейчас.
С этими
словами он отошел от гроба, снова поставил на место подсвечники, покрыл тело
плащом, закрыв при этом и лицо, и вышел из часовни.
У дверей
комнаты крепко спал мальчик-слуга, которого одолел сон, а в комнате ждал
Зигфрида по его приказу Дидерих.
Это был
человек низкого роста, приземистый, с кривыми ногами и квадратным звериным
лицом, полузакрытым темным зубчатым колпаком, спускавшимся на плечи. На нем был
надет кафтан из невыделанной буйволовой кожи, на бедрах такой же пояс, за
которым висела связка ключей и торчал короткий нож. В правой руке он держал
железный, затянутый пузырями фонарь, в левой – медный котелок и факел.
– Ты
готов? – спросил Зигфрид.
Дидерих
молча поклонился.
– Я
велел тебе захватить в котелке углей.
Приземистый
человек снова ничего не ответил, он указал только на пылающие в камине поленья,
взял железный совок, стоявший у камина, и начал из-под поленьев выгребать угли
в котелок. Затем он засветил фонарь и стал в ожидании.
– А
теперь слушай, собака, – сказал Зигфрид. – Когда-то ты выболтал, что
велел тебе сделать комтур Данфельд, и комтур приказал вырвать тебе язык. Но
капеллану ты можешь все показать на пальцах; так вот запомни: если ты только
попробуешь показать ему то, что сделаешь по моему приказанию, я велю тебя
повесить.
Дидерих
снова молча поклонился, только от страшного воспоминания злобная гримаса исказила
его лицо, потому что язык ему вырвали совсем не по той причине, о которой
говорил Зигфрид.
– Ступай
теперь вперед и веди меня в подземелье к Юранду.
Палач
своей огромной рукой схватил котелок за дужку, поднял фонарь, и они вышли. За
дверью они миновали спящего мальчика, спустились с лестницы и направились не к
главному входу, а под лестницу; позади нее тянулся по ширине дома узкий
коридор, который кончался тяжелой одностворчатой дверью, скрытой в нише стены.
Дидерих отворил дверь, и они очутились под открытым небом, во внутреннем
дворике, с четырех сторон окруженном каменными складами, где хранились запасы
хлеба на случай осады замка. Справа под одним из этих складов были подземелья
для узников. Стражи около них не было, так как узник, даже вырвавшись из подземелья,
очутился бы во дворике, из которого был один выход – через дверь, ведущую в
дом.
– Погоди! –
сказал Зигфрид.
Он
оперся рукой о стену и остановился, почувствовав, что с ним творится что-то неладное,
что ему не хватает воздуха, точно грудь его закована в слишком узкий панцирь.
Все то, что пришлось ему пережить, было просто не по его старческим силам. Он
почувствовал, что на лбу у него под капюшоном выступил холодный пот, и решил
немного отдохнуть.
После
хмурого дня спустилась необычайно ясная ночь. Луна взошла на небе, озарив
лучами весь дворик, и снег в лунном сиянии отливал зеленым цветом. Зигфрид
жадно втягивал в грудь свежий, морозный воздух. Ему вспомнилось вдруг, что в
такую же ясную ночь Ротгер уехал в Цеханов, откуда вернулся мертвым.
– А
теперь ты лежишь в часовне, – тихо пробормотал Зигфрид.
Дидерих
подумал, что комтур обращается к нему, он поднял фонарь и осветил мертвенно-бледное
лицо старика, живо напомнившее ему голову старого стервятника.
– Веди! –
сказал Зигфрид.
Желтый
кружок света от фонаря снова затрепетал на снегу, и они направились дальше. В
толстой стене склада было углубление, и несколько ступеней вели к низкой
железной двери. Дидерих отворил дверь и снова стал спускаться по ступеням во
мрак, высоко поднимая фонарь, чтобы осветить комтуру дорогу. В конце лестницы
начинался коридор, а по коридору справа и слева виднелись низенькие двери
подземелий.
– К
Юранду! – велел Зигфрид.
Через
минуту заскрипел засов, и они вошли. Но в темнице царил непроглядный мрак, и
Зигфрид, который плохо видел при тусклом свете фонаря, велел зажечь факел; при
сильном отблеске пламени он увидел лежащего на соломе Юранда. На ногах у узника
были оковы, на руках цепь подлиннее, чтобы он мог поднести пищу ко рту. На нем
было то самое вретище, в котором старый рыцарь предстал перед комтурами, только
сейчас оно было покрыто темными кровавыми пятнами: это в день, когда
обезумевшего от боли и ярости Юранда опутали сетью, чтобы прекратить бой,
кнехты хотели добить рыцаря алебардами и изранили его. Добить старика не дал
местный щитненский капеллан, и раны оказались несмертельными; но Юранд потерял
столько крови, что в темницу его отнесли полуживого. В замке все ждали, что
старый рыцарь вот-вот скончается: но он был таким богатырем, что победил смерть
и остался жив, несмотря на то что ран никто не перевязал и его ввергли в
страшное подземелье, где в оттепель капало со свода, а в морозы стены сплошь
покрывались инеем и льдом.
Он лежал
на соломе, в цепях, ослабелый, но такой огромный, что и теперь казался обломком
скалы, которому придали человеческий образ. Зигфрид велел поднести фонарь к
лицу Юранда и долго в молчании глядел на это лицо. Затем он обратился к
Дидериху и сказал:
– Видишь,
у него только один глаз, выжги ему его.
В голосе
Зигфрида звучало бессилие и старческая немощь, поэтому ужасный приказ казался
еще ужаснее. Факел задрожал в руке палача, и все же он нагнулся, и на глаз
Юранда стали падать большие капли пылающей смолы и вскоре покрыли всю впадину
от брови до выдавшейся скулы.
Судорога
исказила лицо Юранда, белокурые усы встопорщились, обнажив стиснутые зубы; но
старый рыцарь не произнес ни слова и, от крайнего ли изнурения или из присущего
его страшной натуре упорства, не издал ни единого стона.
А
Зигфрид сказал:
– Мы
обещали выпустить тебя на волю и выпустим; но орден ты ни в чем не сможешь уже
обвинить, ибо тебе вырвут язык, которым ты изрыгал хулу на него.
И он
снова дал знак Дидериху; однако тот издал странный горловой звук и показал
старику на пальцах, что ему нужны обе руки и он просит, чтобы комтур ему
посветил.
Зигфрид
взял у него факел и держал его в вытянутой дрожащей руке, но, когда Дидерих
прижал коленями грудь Юранда, старый крестоносец отвернул голову и стал глядеть
на покрытую инеем стену.
Раздался
лязг цепей, затем послышалось трудное дыхание, словно протяжный глухой стон, и
воцарилась тишина.
Тогда
снова раздался голос Зигфрида:
– Юранд,
наказание, которое ты понес, ты и так должен был понести; но я обещал еще брату
Ротгеру, которого убил муж твоей дочери, положить ему в гроб твою правую руку.
Дидерих,
который уже было поднялся, услышав эти слова, снова склонился над Юрандом.
Через
некоторое время старый комтур и Дидерих снова вышли во дворик, залитый лунным
сиянием. Миновав коридор, Зигфрид взял из рук палача фонарь и какой-то темный
предмет, завернутый в тряпку, и сам себе громко сказал:
– Теперь
опять в часовню, а затем в башню.
Дидерих
бросил на него быстрый взгляд; но комтур велел ему идти спать, а сам побрел с колеблющимся
фонарем в руке к освещенным окнам часовни. По дороге он размышлял обо всем
происшедшем. Какая-то уверенность росла в нем, что приходит и его конец, что
это последние дела его на земле; и хотя душа у него была не столько лживая,
сколько жестокая, все же под влиянием неумолимой необходимости он так привык к
уловкам, обману и сокрытию кровавых злодеяний ордена, что и сейчас невольно
думал о том, как снять с себя и с ордена пятно бесчестия и ответственность за
муки Юранда. Дидерих нем, он ни в чем не сознается и, хотя может объясниться с
капелланом, ничего ему не скажет просто из страха. Так кто же, кто может тогда
доказать, что Юранд не получил всех этих ран в сече? Он легко мог потерять язык
от удара копья, меч или секира могли отрубить ему правую руку, а глаз у него
был только один, так что же удивительного, что ему его выбили, когда он в
безумии один бросился на всю щитненскую стражу. Ах, Юранд! Сердце старого
крестоносца затрепетало от последней радости, которую суждено ему было испытать.
Да, если Юранд выживет, они отпустят его на волю! Зигфрид вспомнил, как держал
об этом совет с Ротгером и как молодой брат со смехом сказал: «Пусть идет тогда
к у д а г л а з а г л я д я т, а коли не найдет дороги в Спыхов, пусть с п р о
с и т, как туда пройти». Ибо то, что случилось, они отчасти уже давно решили
сделать. Но сейчас, когда Зигфрид снова вошел в часовню и, опустившись на
колени у гроба, положил в ногах у Ротгера окровавленную руку Юранда, радость,
от которой за минуту до этого трепетала его грудь, в последний раз изобразилась
на его лице.
– Ты
видишь, – сказал он, – я сделал больше, чем мы решили, ибо король
Иоанн Люксембургский хотя и был слеп, но мог еще выйти на бой и погиб со славой[86], а Юранд уже
не выйдет и погибнет, как пес под забором.
Тут у
него снова началось удушье, как и тогда, когда он шел к Юранду, а в голове
старик ощутил тяжесть, как от железного шлема; но это длилось лишь одно
короткое мгновение. Он глубоко вздохнул и сказал:
– Да,
пришел и мой час. Один ты был у меня, а теперь никого не осталось. Но если
суждено мне еще жить, то я даю обет тебе, сынок, либо положить на твою могилу и
ту руку, которая тебя убила, либо самому погибнуть. Жив еще твой убийца…
Зубы
сжались у старого крестоносца при этих словах и такая сильная судорога свела
лицо, что слова замерли у него на устах, и только через некоторое время он
снова заговорил прерывистым голосом:
– Да…
Жив еще твой убийца, но я настигну его… А прежде чем настичь, я заставлю его испытать
муку, горшую смерти.
И он
умолк.
Через
минуту он поднялся и, приблизившись к гробу, сказал спокойным голосом:
– А
теперь я прощусь с тобою… В последний раз погляжу я в твое лицо, может, узнаю,
рад ли ты моему обету. В последний раз!
Он
открыл лицо Ротгера и внезапно отпрянул.
– Ты
смеешься… – сказал он. – Но как страшно ты смеешься…
Труп под
плащом, может быть от тепла свечей, начал с ужасной быстротой разлагаться, и
лицо молодого комтура стало просто страшным. Распухшие, почернелые уши были
чудовищны, а синие вздувшиеся губы искривились как будто в усмешке.
Зигфрид
торопливо закрыл эту страшную человеческую маску.
Затем он
взял фонарь и вышел вон. По дороге старик в третий раз почувствовал удушье; вернувшись
к себе, он бросился на свое жесткое монашеское ложе и некоторое время лежал без
движения. Он думал, что уснет, но его охватило вдруг странное чувство: ему
показалось, что сон уже никогда к нему не придет. И если он останется в этой
комнате, то сейчас к нему придет смерть.
Зигфрид
не боялся ее. Он изнемог, совсем потерял надежду уснуть и в смерти видел лишь
бесконечный покой; но он не хотел, чтобы смерть пришла в эту ночь, и потому сел
на своем ложе и произнес:
– Дай
мне время до завтра.
Но тут
же явственно услышал голос, который прошептал ему на ухо:
– Иди.
Утром уже будет поздно, и ты не сделаешь того, что поклялся сделать. Иди.
С трудом
поднявшись с постели, комтур вышел. На раскатах стен перекликалась стража.
Желтый свет падал из окон часовни на снег. Посреди двора, у каменного колодца,
играли две черные собаки, теребя какую-то тряпку, а так кругом было пустынно и
тихо.
– Непременно
этой ночью? – говорил Зигфрид. – Я так утомился, но я иду. Все спят.
Измученный Юранд тоже, верно, спит, только я никак не усну. Я иду, иду, потому
что в доме ждет меня смерть, а тебе я дал клятву… Но потом пусть приходит
смерть, если не может прийти сон. Ты смеешься там, а у меня нет больше сил. Ты
смеешься, ты, верно, доволен. Но пальцы у меня застыли, бессильны мои руки, и
сам я уже этого не сделаю. Сделает это послушница, которая с нею спит…
Говоря
так с самим собою, он шел тяжелым шагом к башне у ворот. Собаки, которые играли
у каменного колодца, подбежали к нему и стали ласкаться. В одной из них Зигфрид
узнал большую охотничью собаку, такую неразлучную спутницу Дидериха, что в
замке говорили, будто ночью она служит ему подушкой.
Приласкавшись,
собака тихо заскулила, затем, словно угадав мысль человека, побежала к воротам.
Через
минуту Зигфрид очутился перед узкой дверцей башни, которую на ночь запирали снаружи
на засов. Отодвинув его, старик нащупал перила лестницы, которая начиналась
сразу же за дверью, и стал подниматься вверх. В растерянности он забыл фонарь и
шел осторожно, нащупывая ногами ступени.
Сделав
несколько шагов, он вдруг остановился, услышав выше над головой как будто тяжелое
дыхание человека или зверя.
– Кто
там?
Ответа
не последовало, но дыхание стало чаще.
Зигфрид
был человек неустрашимый, он не боялся смерти, но мужество его и самообладание
уже исчерпались в эту страшную ночь. В голове у него пронеслась мысль, что это
Ротгер преградил ему путь, и волосы встали дыбом у него на голове, а лоб
покрылся холодным потом.
Он
попятился чуть не к самому выходу.
– Кто
там? – спросил он сдавленным голосом.
Но в эту
минуту кто-то толкнул его в грудь с такой чудовищной силой, что старик без памяти
грянулся навзничь в открытую дверь, не издав ни единого стона.
Воцарилась
тишина. Потом из башни выскользнула темная фигура и крадучись побежала к
конюшням, расположенным рядом с цейхгаузом по левую сторону двора. Большая
собака Дидериха молча понеслась вслед за нею. Другая собака бросилась за ними и
скрылась в тени, которую отбрасывала стена; однако вскоре она снова появилась;
опустив к земле голову, она потихоньку бежала, словно принюхиваясь к следу.
Подойдя к лежавшему неподвижно Зигфриду, собака обнюхала его и, сев у него в
головах, подняла морду вверх и завыла.
Наводя
новую тоску и новый ужас, долго разносился в эту мрачную ночь ее вой. Наконец в
глубине, у больших ворот, скрипнула потайная дверь и во дворе появился
привратник с алебардой.
– А,
чтоб ты издохла! – сказал он. – Я вот научу тебя выть по ночам!
И,
наставив алебарду, он хотел ткнуть острием в собаку, но тут же увидел, что у
распахнутой дверцы башни кто-то лежит.
– Herr
Jesus![87]
Что это?..
Нагнувшись,
он заглянул в лицо лежащему и закричал:
– Сюда,
сюда, на помощь!
Затем
бросился к воротам и изо всей силы задергал веревку колокола.
|


