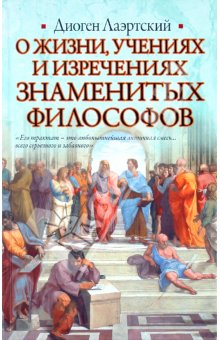
 Увеличить Увеличить |
ЖИЗНЬ ПЛОТИНА
Плотин, философ нашего времени, казалось, всегда испытывал
стыд от того, что жил в телесном облике, и из-за такого своего настроения
всегда избегал рассказывать и о происхождении своем, и о родителях, и о родине.
А позировать живописцу или скульптору было для него так противно, что однажды
он сказал Амелию, когда тот попросил его дать снять с себя портрет: "Разве
мало тебе этого подобия, в которое одела меня природа, что ты еще хочешь
сделать подобие подобия и оставить его на долгие годы, словно в нем есть на что
глядеть?" Так он и отказался, не пожелав по такой причине сидеть перед
художником; но у Амелия был друг Картерий, лучший живописец нашего времени, и
Амелий попросил его почаще бывать у них на занятиях (где бывать дозволялось
всякому желающему), чтобы внимательно всматриваться и запоминать все самое
выразительное, что он видел. И по образу, оставшемуся у него в памяти, Картерий
написал изображение Плотина, а сам Амелий внес в него последние поправки для сходства:
вот как искусством Картерия создан был очень похожий портрет Плотина без
всякого его ведома.
Часто страдая животом, он никогда не позволял делать себе
промывание, твердя, что не к лицу старику такое лечение; и он отказывался
принимать териак,[904] говоря,
что даже мясо домашних животных для него не годится в пищу. В бани он не ходил,
а вместо этого растирался каждый день дома; когда же мор усилился и растиравшие
его прислужники погибли, то, оставшись без этого лечения, он заболел еще и
горлом. При мне никаких признаков этого еще не было; но когда я уехал, то
болезнь его усилилась настолько, что и голос его, чистый и звучный, исчез от
хрипа, и взгляд помутился, и руки и ноги стали подволакиваться. Об этом мне
рассказал по возвращении наш товарищ Евстохий, остававшийся при нем до самого
конца; остальные же друзья избегали с ним встреч, чтобы не слышать, как он не
может выговорить даже их имен. Тогда он уехал из Рима в Кампанию, в имение
Зефа, старого своего друга, которого уже не было в живых; в этом имении хватало
для него пропитания, да еще кое-что приносили от Кастриция из Минтури, где у
Кастриция было поместье. О кончине его Евстохий нам рассказывал так (сам
Евстохий жил в Путеолах и поспел к нему, лишь когда уже было поздно): умирающий
сказал ему: "А я тебя все еще жду", потом сказал, что сейчас
попытается слить то, что было божественного в нем, с тем, что есть
божественного во Вселенной; и тут змея проскользнула под постелью, где он
лежал, и исчезла в отверстии стены, а он испустил дыхание. Было ему, по словам
Евстохия, шестьдесят шесть лет; на исходе был второй год царствования Клавдия.
Во время его кончины я, Порфирий, находился в Лилибее, Амелий — в сирийской
Апамее, Кастриций — в Риме, и при нем был один только Евстохий.
Если отсчитать шестьдесят шесть лет назад от второго года
царствования Клавдия, то время его рождения придется на тринадцатый год
царствования-Севера. Ни месяца, ни дня своего рождения он никому не называл, не
считая нужным отмечать этот день ни жертвоприношением, ни угощением; а между
тем дни рождения Сократа и Платона, нам известные, он отмечал и жертвами и
угощением для учеников, после которого те из них, кто умели, держали перед
собравшимися речь.
О жизни своей случалось ему в беседах рассказывать нам вот
что.[905] Молоком кормилицы он
питался до самого школьного возраста и еще в восемь лет раскрывал ей груди,
чтобы пососать; но, услышав однажды "Какой гадкий мальчик!",
устыдился и перестал. К философии он обратился на двадцать восьмом году и был
направлен к самым видным александрийским ученым, но ушел с их уроков со стыдом
и печалью, как сам потом рассказывал о своих чувствах одному из друзей; друг
понял, чего ему хотелось в душе, и послал его к Аммонию, у которого Плотин еще
не бывал; и тогда, побывав у Аммония и послушав его, Плотин сказал другу:
"Вот кого я искал!" С этого дня он уже не отлучался от Аммония и
достиг в философии таких успехов, что захотел познакомиться и с тем, чем
занимаются у персов, и с тем, в чем преуспели индийцы. Поэтому, когда император
Гордиан предпринял поход на Персию, он записался в войско и пошел вместе с ним;
было ему тридцать девять лет, а при Аммонии он провел в учении полных
одиннадцать лет. Гордиан погиб в Месопотамии, а Плотин едва спасся и укрылся в
Антиохии; и оттуда, уже сорока лет от роду, при императоре Филиппе приехал в
Рим.
С Гереннием и Оригеном Плотин заключил уговор никому не
раскрывать тех учений Аммония, которые тот им поведал в сокровенных своих
уроках; и Плотин оставался верен уговору: хотя он и занимался с теми, кто к
нему приходил, но учения Аммония хранил в молчании. Первым уговор их нарушил
Геренний, за Гереннием последовал Ориген (написавший, правда, только одно
сочинение о демонах, да потом при императоре Галлиене книгу о том, что царь
есть единственный творец); но Плотин еще долго ничего не хотел записывать, а
услышанное от Аммония вставлял лишь в устные беседы. Так он прожил целых десять
лет: занятия вел, но ничего не писал. А беседы он вел так, словно склонял
учеников к распущенности и всякому вздору. Об этом рассказывал нам Амелий; к
Плотину он пришел на третий год его преподавания в Риме, в третий год
царствования Филиппа, и оставался при нем целых двадцать четыре года, до
первого года царствования Клавдия. Бывший ученик Лисимаха, прилежанием он
превзошел всех остальных слушателей Плотина: он собрал и записал почти все
наставления Нумения,[906] большую
часть их выучивши на память, а записывая уроки Плотина, составил из этих
записей чуть ли не сто книг, которые подарил своему приемному сыну Гостилиану
Гесихию Апамейскому.
На десятом году царствования Галлиена я, Порфирий, приехавши
в Рим из Эллады вместе с Антонием Родосским, нашел здесь Амелия, который уже
восемнадцать лет жил и учился у Плотина, но писать еще ничего не решался и вел
только записи уроков, да и тех еще до ста не набралось. Плотину в тот десятый
год царствования Галлиена было около пятидесяти девяти лет, а мне, Порфирию,
при той первой встрече с ним исполнилось тридцать. Еще с первого года
царствования Галлиена Плотин стал излагать письменно те рассуждения, которые
приходили ему в голову; и к десятому году царствования Галлиена, когда я,
Порфирий, впервые с ним познакомился, у него была уже написана двадцать одна
книга, но изданы они были лишь для немногих, да и то издавал он их не легко и
не спокойно, и назначались они не для простого беглого чтения, а чтобы читающие
вдумывались в них со всем старанием. Заглавий он на своих сочинениях не ставил,
поэтому каждый озаглавливал их по-своему; а закрепились эти заглавия в таком
виде:[907] "О прекрасном",
"О бессмертии души", "О судьбе", "О сущности
души", "Об уме, идеях и бытии", "О нисхождении души в
тело", "Как от первого происходит последующее и о единице",
"Все ли души — одна душа", "О благе и о едином", "О трех
начальных субстанциях", "О становлении и порядке того, что после единицы",
"О двух материях", "Разные наблюдения", "О круговом
движении", "О присущем каждому демоне", "О разумном
исходе", "О качестве", "Существуют ли идеи частных
вещей", "О добродетелях", "О диалектике", "Почему
душу можно назвать средним между неделимым и делимым".
Вот какие книги, числом двадцать одна, были уже написаны,
когда я, Порфирий, впервые пришел к Плотину, а было ему тогда пятьдесят девять
лет. Я провел с ним весь этот год и следующие пять лет (в Рим я прибыл
незадолго до этого,[908] когда
по летнему времени Плотин отдыхал, а не вел беседы, как обычно), и за эти шесть
лет, многое рассказав нам в наших занятиях, он в ответ на усердные просьбы
Амелия и мои написал две книги "О том, что сущее повсюду одно и то
же", тотчас затем — еще две книги "О том, что не может мыслить то,
что выше сущего" и "Что есть первое мыслящее и что второе"; а
потом написал "О силе и действии", "О бесстрастии
бестелесного", "О душе первая книга", "О душе вторая
книга", "О душе третья книга, или же О времени", "О
созерцании", "Об умопостигаемой красоте", "О том, что вне
ума нет умопостигаемого, а также об уме и благе", "Против
гностиков", "О числах", "Почему издали вещи кажутся
маленькими", "В продолжительности ли счастье", "О всеобщем
смешении", "Как существует множественность идей, а также о
благе", "О добровольном", "О мироздании", "Об
ощущении и памяти", "О родах сущего" первая, вторая и третья
книги, "О вечности и времени". Вот какие двадцать четыре книги
написал он за эти шесть лет при мне, Порфирий, черпая их содержание из рассматривавшихся
у нас в это самое время вопросов, как то ясно из оглавления каждой из этих
книг. Вместе с теми двадцатью одной книгами, которые были написаны до нашего
приезда, это составляет сорок пять книг. А когда я уехал в Сицилию (дело было
на пятнадцатом году царствования Галлиена), то Плотин написал еще пять книг и
переслал их мне: "О счастье", "О провидении" первая и
вторая книги, "О познающих субстанциях и о том, что выше их", "О
любви". Их он послал мне в первый год царствования Клавдия; а в начале
второго года, незадолго до собственной смерти, прислал еще следующие: "В
чем зло", "Что делают звезды", "Что есть человек",
"Что есть животное", "О первичном благе, или О счастье".
Вместе с сорока пятью книгами, в два периода написанными ранее, это составляет
пятьдесят четыре книги.
Так как писал он их в разное время, одни — в раннем
возрасте, другие — в зрелом, а третьи — уже в телесном недуге, то и сила в них
чувствуется разная. Первые двадцать одна книга более легковесны и еще не
достигают полной силы и величия; книги второго выпуска обнаруживают силу,
достигшую расцвета, — эти двадцать четыре, за немногим исключением,
остаются у Плотина совершеннейшими; наконец, последние девять написаны с уже
убывающей силой, и последние четыре — больше, чем предпоследние пять.
Учеников, преданно верных его философии, у него было много.
Таков был Амелий Этрусский, родовое имя которого было Гентилиан; называть себя
он предпочитал «Америем», через «р», считая, что пристойнее иметь имя от
«америи» [цельности], нежели от «амелии» [беззаботности]. Был Павлин, врач из
Скифополя, которого Амелий прозвал Малюткою за то, что он многое услышанное
понимал не так. Был и другой врач, Евстохий из Александрии, который
познакомился с Плотином уже в его старости и лечил его до самого конца;
занимался он только Плотиновыми предметами и вид имел истинного философа. Был с
ним и Зотик, критик и стихотворец, выпустивший исправленное издание Антимаха и
отлично переложивший в стихи сказание об Атлантиде;[909] он заболел глазами и умер незадолго до Плотина.
Был его товарищем и Зеф, родом из Аравии, женатый на дочери Феодосия, Аммониева
товарища; он тоже занимался врачеванием, и Плотин его очень любил. Занимался он
и политикой, пользуясь в ней немалым влиянием; но Плотин позаботился его от
этого отозвать. Жил с ним Плотин по-домашнему и бывал у него в имении, что за
шестым верстовым камнем по дороге от Минтурн. Имение это купил Кастрииий Фирм,
среди наших современников величайший любитель прекрасного, перед Плотином
благоговевший, Амелию во всех заботах помогавший как верный слуга, а мне,
Порфирию, бывший во всем как родной брат; он тоже был почитателем Плотина, хотя
и не оставлял общественной жизни. Слушателями Плотина были даже многие
сенаторы, из которых более всех преуспели в философии Орронтий Марцелл и
Сабинилл. Из сенаторского сословия был и Рогациан, который проникся таким
отвращением к своему образу жизни, что отказался от всего своего имущества,
распустил всех рабов, избегал всех знаков своего достоинства: в звании претора,
когда он должен был выступать в сопровождении ликторов, он и с ликторами не
выступал и об устройстве зрелищ не заботился; дом свой он покинул, ходил по
друзьям и близким, там ел и спал, а пищу принимал через день; от такого
воздержания и нерадения о себе он заболел подагрою, ослабел до того, что не мог
встать с носилок и не мог поднять руки, но пальцами владел куда искуснее, чем
ремесленники, ручным трудом зарабатывающие на жизнь. Плотин его очень уважал,
отзывался о нем всегда с великими похвалами и ставил его в добрый пример всем
занимающимся философией. Был с Плотином и Серапион Александрийский, поначалу
занимавшийся риторикой, а потом еще и философскими рассуждениями, однако так и
не сумевший отстать от корыстолюбия и даже лихоимства. Был среди его ближайших
товарищей и я, Порфирий из города Тира, которому он даже доверял выправлять
свои сочинения.
Дело в том, что, написав что-нибудь, он никогда дважды не
перечитывал написанное; даже один раз перечесть или проглядеть это было ему
трудно, так как слабое зрение не позволяло ему читать. Писал он, не заботясь о
красоте букв, не разделяя должным образом слогов, не стараясь о правописании,
целиком занятый только смыслом; в этом, к общему нашему восхищению, он
оставался верен себе до самой смерти. Продумав про себя свое рассуждение от
начала и до конца, он тотчас записывал продуманное и так излагал все, что
сложилось у него в уме, словно списывал готовое из книги. Даже во время беседы,
ведя разговор, он не отрывался от своих рассуждений: произнося все, что нужно
было для разговора, он в то же время неослабно вперял мысль в предмет своего
рассмотрения. А когда собеседник отходил от него, он не перечитывал
написанного, ибо, как сказано, был слишком слаб глазами, а принимался прямо
продолжать с того же места, словно и не отрывался ни на миг ни для какого
разговора. Так умел он беседовать одновременно и сам с собою и с другими, и
беседы с самим собою не прекращал он никогда, разве что во сне; впрочем, и сон
отгонял он от себя, и пищею довольствовался самой малой, воздерживаясь порою
даже от хлеба, довольствуясь единою лишь сосредоточенностью ума.
Были при нем женщины, всей душою преданные философии:
Гемина, у которой он жил в доме, и дочь ее, тоже Гемина, и Амфиклея, вышедшая
за Аристона, сына Ямвлиха. Многие мужчины и женщины из числа самых знатных
перед смертью приносили к нему своих детей, как мальчиков, так и девочек,
доверяя их и все свое имущество его опеке, словно был он свят и божествен.
Поэтому дом его полон был подростков и девиц; среди них был и Полемон, о
воспитании которого он очень заботился и даже не раз слушал сочиненные им
стихи. Он терпеливо принимал отчеты от управителей детским имуществом и следил
за их аккуратностью: пока дети не доросли до философии, говорил он, нужно,
чтобы имущество их и доходы были при них целыми и неприкосновенными. Но и в
стольких своих жизненных заботах и попечениях он никогда не ослаблял напряжения
бодрствующего своего ума.
Был он добр и легко доступен всем, кто хоть сколько-нибудь
был с ним близок. Поэтому-то, проживши в Риме целых двадцать шесть лет и бывая
посредником в очень многих ссорах, он ни в едином из граждан не нажил себе
врага. Среди придворных философов был некий Олимпий Александрийский, недавний
ученик Аммония, желавший быть первым и потому не любивший Плотина; в своих
нападках он даже уверял, что Плотин занимается магией и сводит звезды с неба.
Он замыслил покушение на Плотина, но покушение это обратилось против него же;
почувствовав это, он признался друзьям, что в душе Плотина великая сила: кто на
него злоумышляет, на тех он умеет обращать собственные их злоумышления. А
Плотин, давая свой отпор Олимпию, только и сказал, что тело у него волочилось,
как пустой мешок,[910] так
что ни рук, ни ног не разнять и не поднять. Испытав не раз такие неприятности,
когда ему самому приходилось хуже, чем Плотину, Олимпий наконец отступился от
него.
И точно, по самой природе своей Плотин был выше других.
Однажды в Рим приехал один египетский жрец, и кто-то из друзей познакомил его с
Плотином; желая показать ему свое искусство, жрец пригласил его в храм, чтобы
вызвать его демона-хранителя, и Плотин легко согласился. Заклятие демона было
устроено в храме Исиды — по словам египтянина, это было единственное чистое
место в Риме; и когда демон был вызван и предстал перед глазами, то оказалось,
что он не из породы демонов, а из породы богов. Увидевши это, египтянин
воскликнул: "Счастлив ты! Хранитель твой — бог, а не демон низшей
породы!" — и тотчас запретил и о чем-либо спрашивать этого бога, и
даже смотреть на него, потому что товарищ их, присутствовавший при зрелище и
державший в руках сторожевых птиц, то ли от зависти, то ли от страха задушил
их. Понятно, что, имея хранителем столь божественного духа, Плотин и сам
проводил немало времени, созерцая его своим божественным взором. Поэтому он и
книгу написал о присущих нам демонах, где пытается указать причины различий
между нашими хранителями. А когда однажды Амелий, человек очень богобоязненный,
всякое новолуние и всякий праздничный день ходивший по всем храмам, предложил и
Плотину пойти с ним, тот сказал: "Пусть боги ко мне приходят, а не я к
ним!", но что он хотел сказать такими надменными словами, этого ни сам я
понять не мог, ни его не решился спросить.
Распознавать людской нрав умел он с замечательным
искусством. Однажды пропало дорогое ожерелье у Хионы, честной вдовы, которая с
детьми жила у него в доме; и Плотин, созвавши всех рабов и всмотревшись в
каждого, показал на одного и сказал: "Вот кто украл!" Под розгами тот
поначалу долго отпирался, но потом во всем признался и принес украденное. О
каждом из детей, которые при нем жили, он заранее предсказывал, какой человек
из него получится; так, о Полемоне он сказал, что тот будет любвеобилен и умрет
в молодости — так оно и случилось. А когда я, Порфирий, однажды задумал
покончить с собой, он и это почувствовал и, неожиданно явившись ко мне домой,
сказал мне, что намерение мое — не от разумного соображения, а от
меланхолической болезни и что мне следует уехать. Я послушался и уехал в
Сицилию, где, как я слышал, жил в Лилибее славный муж по имени Проб; это и спасло
меня от моего намерения, но не позволило мне находиться при Плотине до самой
его кончины.
В большом почете он был и у императора Галлиена и у супруги
его Салонины. Благосклонностью их он хотел воспользоваться вот для чего: был,
говорят, в Кампании некогда город философов, впоследствии разрушенный, его-то
он и просил восстановить и подарить ему окрестную землю, чтобы жили в городе по
законам Платона, и название город носил Платонополь; в этом городе он и сам
обещал поселиться со своими учениками. И такое желание очень легко могло
исполниться, если бы не воспрепятствовали этому некоторые императорские
советники то ли из зависти, то ли из мести, то ли из каких других недобрых
побуждений.
В разговоре был он искусным спорщиком и отлично умел
находить и придумывать нужные ему доводы; но в некоторых словах он делал
ошибки, например говорил «памятать» вместо «памятовать» и повторял это во всех
родственных словах, даже на письме. Ум его в беседе обнаруживался ярче всего:
лицо его словно освещалось, на него было приятно смотреть, и сам он смотрел
вокруг с любовью в очах, а лицо его, покрывавшееся легким потом, сияло добротой
и выражало в споре внимание и бодрость. Мне, Порфирию, он однажды три дня
отвечал на мои вопросы о том, как душа связана с телом, и когда вошел Фавмасий,
записывавший в книги его рассуждения на общие темы, и хотел его послушать, но
не мог этого сделать, оттого что я, Порфирий, все время перебивал его речь
своими вопросами и ответами, то Плотин сказал: "Пока я не решу всех
сомнений Порфирия, ничего сказать для книги я не смогу!"
Писал он обычно напряженно и остроумно, с такою краткостью,
что мыслей было больше, чем слов, и очень многое излагал с божественным
вдохновением и страстью, скорее возбуждая чувства, нежели сообщая мысль. В
сочинениях его присутствуют скрытно и стоические положения, и перипатетические,
особенно же много аристотелевских, относящихся к метафизике; не укрывалась от
него никакая проблема ни из геометрии, ни из арифметики, ни из механики, ни из
оптики, ни из музыки, хотя сам он этими предметами никогда не занимался.
При занятиях читались ученые записки или Севера, или Крония,
или Нумения, или Гая, или Аттика, а из перипатетиков — Аспасия, Александра,
Адраста и прочих, кого случится. Но из всего этого он ничего не вычитывал
прямо, а всегда по-своему, с переработкой и ссылаясь в исследованиях на мнения
Аммония; а потом, быстро насытившись чтением и в немногих словах уделив
внимание глубоким проблемам, он вставал с места. И когда ему однажды прочли
что-то из книги "О началах" Лонгина Филархея, он сказал:
"Филолог Лонгин хороший, философ же никакой!" А когда к нему на
занятия пришел Ориген, то он весь покраснел и хотел тотчас же встать с места;
Ориген просил его продолжать, но он ответил, что когда говоришь перед тем, кто
заранее знает, что ты скажешь, то надо скорее кончать; и, сказав еще несколько
слов, закончил занятие.
На платоновском празднике я прочитал однажды стихотворение о
священном бракосочетании, и так как в нем иное было сказано мистически, а
многое — прикровенным образом и по вдохновению, то кто-то заметил, что
"Порфирий безумствует"; но учитель при всех объявил мне: "Ты
показал себя и поэтом, и философом, и иерофантом!" А когда ритор Диофан
стал читать апологию Алкивиада на Платоновом пиру, рассуждая, будто для
научения добродетели следует отдаваться наставнику, ищущему любовного соития,
то Плотин несколько раз вставал с места, словно собираясь выйти вон, но
сдерживал себя, и, лишь когда собрание разошлось, он поручил мне, Порфирию,
написать опровержение. Дать мне свое сочинение Диофан не пожелал, так что я
написал опровержение, перебирая его доводы по памяти, и прочитал написанное
перед теми же слушателями; и Плотин был так доволен, что при всех несколько раз
приговаривал:
Так порази его, так, если подлинно светоч ты людям![911]
А когда Евбул, преемник Платона, прислал из Афин написанное
им сочинение по некоторым платоновским вопросам, то Плотин и его велел передать
мне для рассмотрения и ответа. Сам же он астрономией по-математически занимался
мало, а больше вникал в предсказания звездочетов; да и тут он без колебания
осуждал многое в их писаниях, если ловил их на каких-нибудь ошибках.
Были при нем среди христиан многие такие, которые отпали от
старинной философии, — ученики Адельфия и Аквилина; опирались они на
писания Александра Ливийского, Филокома, Демостра-та, Лида и выставляли напоказ
откровения Зороастра, Зостриана, Никофея, Аллогена, Меса и тому подобных,
обманывая других и обманываясь сами, словно бы Платон не сумел проникнуть в
глубину умопостигаемой сущности! Против них он высказал на занятиях очень много
возражений, записал их в книге, озаглавленной нами "Против
гностиков", а остальное предоставил на обсуждение нам. Амелий написал
против книги Зостриана целых сорок книг, а я, Порфирий, собрал много доводов
против Зороастра, доказывая, что книга его — подложная, лишь недавно
сочиненная, изготовленная самими приверженцами этого учения, желавшими выдать
собственные положения за мнение древнего Зороастра.
Когда же нашлись в Элладе такие люди, которые стали уверять,
будто Плотин присвоил учение Нумения, и об этом сообщил Амелию Трифон, платоник
и стоик, то Амелий написал книгу, которую мы озаглавили "Об отличии учения
Плотина от учения Нумения". Посвятил он ее Царю, то есть мне: Царем
называли меня, Порфирия, потому что на родном моем языке имя мне было Малх, как
и отцу моему, а в переводе на эллинский язык оно означало «царь». Потому-то
Лонгин, посвящая свою книгу "О побуждении" Клеодаму и мне, Порфирию,
написал на ней: "Вы, Клеодам и Малх…"; потому и Амелий, в подражание
Нумению, который имя Максим перевел «великий», мое имя Малх перевел «царь» и
написал так:
"Амелий Царю желает благополучия! Ты говоришь, что
некие именитые мужи шумят изо всех сил, стараясь возвести все учение нашего
друга к Нумению Апамейскому. Конечно, ты понимаешь, что из-за них одних я не
стал бы и слова говорить: ведь ясно, что от хваленого их красноречия и
краснословия можно услышать и такое, будто друг наш пошлый шутник, и такое,
будто он подкидыш, и такое даже, будто он всякую самую дрянь выдает за свое добро,
но говорится это очевидным образом лишь для того, чтобы над ним поиздеваться.
Но ты рассудил, что этим предлогом можно воспользоваться для того, чтобы и наши
собственные мнения, хоть они и широко известны, живее восстановить в памяти и
доступнее сделать для познания, к пущей славе нашего друга, ибо Плотин нам
великий друг. Я согласился и вот вручаю тебе обещанное сочинение, написав его,
как ты сам знаешь, за три дня. Отнесись к нему с законным снисхождением: это не
сводка или выборка, извлеченная из сопоставления известных сочинений, а здесь
повторено то, что мы узнали при давней нашей встрече, в том же порядке, в каком
это было впервые сказано; между тем мысли этого мужа, ныне обвиненного
недругами перед нашим согласным взглядом, не так-то легки для схватывания,
потому что об одном и том же он говорил в разное время по-разному. Если же я
неточным словом сказал о чем-нибудь особенно ему близком, то, я уверен, ты это
исправишь без гнева. Ведь получается, что "сколь я ни занят" (как
где-то говорится в трагедии), из-за этой розни, возникшей против мнений нашего
учителя, мне приходится наводить порядок и давать отпор; но я пошел и на это из
одного лишь желания угодить тебе и здесь, как и всюду. Будь же здоров".
Это обращение я почел нужным привести здесь для того, чтобы
показать, что были в то время и такие, которые не только полагали, что учитель
наш тщеславится тем, что позаимствовал у Нумения, но еще и называли его пошлым
шутником и презирали за то, что он-де думает одно, а говорит другое, за то, что
он чужд всякой софистической броскости и пышности, за то, что говорит он так,
словно в домашней беседе, и не торопится выказать свое искусство умозаключений,
требуемых от него при рассуждении. Да и я, Порфирий, остался при таком
впечатлении, когда в самый первый раз его услышал. Я даже взялся писать ему
возражение, стараясь показать, будто и вне ума существует умопостигаемое.
Плотин попросил Амелия прочесть ему это возражение и, выслушав, улыбнулся и
сказал: "Ну что же, Амелий, придется тебе разъяснять Порфирию его
недоумения, возникшие от незнания наших мнений!" Амелий написал тогда
немалую книгу "О недоумениях Порфирия", я сочинил на нее возражение,
Амелий и на него ответил, и тут, с третьего лишь раза, я, Порфирий, понемногу
понял сказанное, написал «палинодию» и прочитал ее при всех на занятии. С
этих-то пор Плотин и книги свои мне доверил, и сам возымел желание излагать
свои мнения более расчленение и подробно. Да и Амелий после этого стал охотнее
писать книги.
А какого мнения о Плотине держался Лонгин, судивший главным
образом по тому, что я сообщал о нем в письмах, это виднее всего из одного
отрывка послания Лонгина ко мне. Написано в нем вот что. Он приглашает меня
приехать из Сицилии к нему в Финикию и привезти с собою книги Плотина.
"Можешь, если захочешь, послать их с кем-нибудь, — пишет он, —
но лучше привези их сам. Я не перестану просить тебя снова и снова: поезжай
лучше ко мне, чем куда-нибудь еще. Не хочу манить тебя чем-нибудь особенным —
ведь уж никак не надежда на какую-то мудрость может привести тебя ко мне! но и
места здесь давно тебе привычны, и воздух хорош при нездоровье, на которое ты
жалуешься, и все иное есть, на что ты можешь рассчитывать: ни нового от меня не
жди, ни старого, что прошло и не вернется, как ты пишешь. Писцы здесь так редки,
что за все это время, клянусь богами, я с трудом сумел достать и переписать для
себя остальные сочинения Плотина, да и то писцу пришлось бросить все дела и
заниматься только этим. Теперь, кажется, у меня есть все, что ты в последний
раз прислал, но в очень несовершенном виде, потому что ошибок там безмерное
множество. Я было надеялся, что друг наш Амелий сам выправит ошибки писцов, но
он предпочел заниматься чем угодно другим, только не этим. Поэтому хоть мне и
больше всего хотелось бы разобраться в книгах "О душе" и "О
бытии", но, как это сделать, не знаю: они больше всего пестрят ошибками.
Поэтому мне очень хотелось бы получить их от тебя в надежном списке: я их
только сверю и отошлю обратно. Но повторяю еще раз: не присылай их, а лучше сам
приезжай и с ними и со всеми остальными книгами, которые ускользнули от Амелия.
Все, что привез Амелий, я, конечно же, постарался приобрести: как же было не
приобрести сочинений такого человека, достойных всяческой чести и уважения?
Ведь я об этом и прямо тебе говорил, и писал тебе в Тир и в дальние твои
поездки: в содержании с ним я далеко не во всем согласен, но и слог его, и
густота мыслей, философичность исследований бесконечно дороги мне и любезны,
так что я считаю, что книги эти должны быть в великом почете у всех пытателей
истины". Я сделал эту пространную выписку, чтобы показать, как отзывался о
Плотине самый тонкий ценитель нашего времени, у всех остальных современников
решительно осуждавший едва ли не все ими написанное. А поначалу и он судил о
Плотине пренебрежительно, потому что многого не знал: и в книгах, полученных от
Амелия, он подозревал ошибки лишь потому, что не был знаком с Плотиновым
обычаем выражаться, ибо, уж конечно, списки Амелия, сделанные с автографов,
были так же безошибочны, как и прочие.
Следует привести и еще одну выписку из сочинений Лонгина о
Плотине, Амелии и других современных философах, чтобы яснее стало, как судил о
них этот муж, столь славный и строгий. Называется книга "О пределе",
посвящается Плотину и Амелию Гентилиану, а начинается так: "Много в мое
время, Марцелл, было на свете философов, особенно же много в пору ранней моей
молодости. Нынче в этой области такое оскудение, что и сказать трудно; а когда
я был мальчиком, то еще много было мужей, отличавшихся в философских занятиях,
и мне со всеми ними довелось видеться, потому что с детства я сопровождал моих
родителей во всех их поездках по разным местам и, посещая многие края и города,
встречался с теми философами, какие были тогда в живых. Одни из них старались
излагать свои взгляды в сочинениях, надеясь оставить их на пользу потомкам, а
другие довольствовались тем, что предоставляли ученикам подводить желающих к
пониманию их взглядов. К числу первых принадлежали: платоники Евклид, Демокрит,
Проку лин (который жил в Троаде), а также Плотин и друг его Амелий Гентилиан,
которые и по сей день преподают в Риме; стоики Фемистокл и Фебион, а также
Анний и Медий, которые еще недавно были в расцвете сил; а из перипатетиков
Гелиодор Александрийский. Ко второму роду принадлежали: платоники Аммоний и
Ориген, с которыми провел я много времени и которые очень сильно возвышались
над своими современниками, а затем преемники по афинской Академии Феодот и
Евбул (кое-что писали и они, например Ориген — "О демонах", Евбул —
"О Филебе, Горгии и Аристотелевых возражениях на платоновское
"Государство""; но этого недостаточно, чтобы причислить их к
тем, кто вырабатывали свое учение письменно, потому что занимались они этим
лишь мимоходом и писательская забота была у них не главной); стоики Гермин и
Лисимах, а также доныне живущие в Риме Афиней и Мусоний; и, наконец,
перипатетики Аммоний и Птолемей, образованнейшие люди своего времени (особенно
Аммоний, с которым никто не мог сравниться в широте знаний), не писавшие,
однако, никаких учебных сочинений, а только стихи да похвальные речи, да и те,
мне кажется, дошли до нас лишь вопреки их желанию, потому что вряд ли они
хотели прославиться в потомстве такими сочинениями, когда не пожелали сохранить
свои мысли в книгах более значительных и важных. Далее, из сочинителей книг
одни лишь собирали и переписывали то, что оставили предки, — таковы
Евклид, Демокрит, Прокулин; другие старательно припоминали всякие мелочи из
древней истории и подбирали их одна к одной, заполняя целые книги, —
таковы Анний, Медий и Фебион; но и те и другие заслужили известность больше
отделкой слога, чем складом мысли, равно как и Гелио-дор, который тоже в
разработке рассуждений ничего не прибавил к услышанному от предшественников.
Подлинное же писательское рвение обнаружили как в изобилии затронутых ими
вопросов, так и в особенном своем способе их рассмотрения лишь Плотин и Амелий
Гентилиан: первый из них, как нам кажется, достиг в разработке платоновских и
пифагорейских положений гораздо большей ясности, чем была до него, далеко
превзойдя подробностью своих сочинений и Нумения, и Крония, и Модерата, и
Фрасилла; а второй, следуя по его следам и занимаясь теми же положениями, что и
он, был неподражаем в отделке частностей и особенно усердствовал в
обстоятельности слога, в полную противоположность своему учителю. Только их
сочинения мы и считаем заслуживающими изучения; что же касается всего
остального, то станет ли кто ворошить эти книги вместо того, чтобы обратиться к
их источникам, если здесь к ним ничего не добавлено ни в предметах, ни в доказательствах,
если даже не собрано немногое из многого и не отделено лучшее от худшего?
Именно таким отбором мы сами и занялись, когда написали возражение Гентилиану
"О Платоновой справедливости" и разобрали книгу Плотина "Об
идеях". При этом у нас и у них был общий товарищ — Царь из города Тира,
сам немало поработавший по Плотинову образцу; соглашаясь с Плотином больше, чем
позволяли наши уроки, он попытался в своем сочинении показать, что Плотиново
учение об идеях лучше, чем наше, а мы в свою очередь возразили ему в должной
мере, упрекнув его за перемену образа мыслей и задев попутно многих его
единомышленников. То же самое сделали мы и в нашем письме к Амелию величиною с
целую книгу, которым мы отвечали на его письмо из Рима, им самим озаглавленное
"О характере Плотиновой философии"; мы же для нашего сочинения
удовольствовались самым простым заглавием, назвав его "Послание к
Амелию". Таким образом, Лонгин признает здесь, что среди всех его
современников Плотин и Амелий более всего выделяются и по обилию рассматриваемых
вопросов, и по самостоятельности их рассмотрения, что учений Нумения они не
одобряли и не присваивали, а следовали учениям пифагорейцев и Платона, что
сочинения Нумения, Крония, Модерата и Фрасилла далеко уступают в тщательности
Плотиновым и что Амелий хоть и следовал по стопам Плотина, но был неподражаем в
отделке частностей и особенно усердствовал в обстоятельности слога, в полную
противоположность своему учителю. Упоминает он и обо мне, Порфирии, только что
примкнувшем тогда к Плотиновым ученикам: "У нас и у них был общий товарищ
Царь из города Тира, сам немало поработавший по Плотинову образцу"; здесь
он справедливо отмечает, что Амелиевой обстоятельности я старался избегать,
считая ее недостойной философа, и когда писал, то всеми силами следовал
Плотину. Разве мало, что так писал о Плотине человек, который и был и до сих
пор считается лучшим из знатоков? А если бы я, Порфирии, мог бы встретиться с
ним по его приглашению, то он не написал бы и возражения своего, за которое
взялся, не успев еще по-настоящему усвоить Плотиново учение.
"Впрочем, к чему это я говорю о скале или дубе?"[912] — как сказано у Гесиода.
Если уж приводить свидетельства, полученные от мудрых, то, кто мудрее, чем
бог, — тот бог, что истинно молвил: "Числю морские песчинки и ведаю моря
просторы, внятен глухого язык и слышны мне речи немого".[913] Так вот, этот самый Аполлон, молвивший
некогда о Сократе "Мудрее нет Сократа меж людей",[914] теперь на вопрос Амелия, куда переселилась
Плотинова душа, дал о Плотине вот какой божественный ответ:
Се начинаю бессмертную песнь на хвалительной лире, В честь
любезного друга медвяные звуки сплетая Струн сладкозвонной кифары, златым
обегаемых плектром. Музы, вас призываю возвысить согласное пенье, В стройной
ладов череде ведя ваши стройные клики, Как выводили вы их об Ахилле, Эаковом
внуке, В древних песнях Гомера, в божественном их вдохновенье. Ныне же, Музы,
священный ваш хор со мной да содвинет В каждый песенный вздох пределы всего
мирозданья, А в середину взойду я, Феб Аполлон длиннокудрый. Демон, некогда
муж, а ныне живущий в уделе Высшем, чем демонам дан, сбил узы ты смертного
рока, Стал над сменой телесных приливов, телесных отливов И укрепившися духом
достиг последнего брега В плаванье дальнем сквозь море сует, прочь от низменной
черни, Чтобы в душевной своей чистоте встать на путь прямолетный, Путь,
озаренный сиянием божеским, путь правосудный, В чистую даль уводящий от дольней
неправедной скверны. Было и так, что, когда боролся ты с горькой волною Жизни
кровавой земной, вырываясь из гибельных крутней, На середине потока грозивших
нежданной бедою, Часто от вышних богов ты знаменье видел спасенья, Часто твой
ум, с прямого пути на окольные тропы Сбитый и рвавшийся вкривь, лишь на силы
свои уповая, Вновь выводили они на круги бессмертного бега, Ниспосылая лучи
своего бессмертного света Сквозь непроглядную тьму твоему напряженному взору.
Не обымал тебя сон, смежающий зоркие очи, Нет, отвеяв от век пелену тяжелую
мрака, Ты проницал, носимый в волнах, вперяясь очами, Многую радость, которую
зреть дано лишь немногим Смертным из тех, кто плывут, повивая высокую мудрость.
Ныне же тело свое ты сложив, из гробницы исторгнув Божию душу свою,
устремляешься в вышние сонмы Светлых богов, где впивает она желанный ей воздух,
Где обитает и милая дружба и нежная страстность, Чистая благость царит, вновь и
вновь наполняясь от бога Вечным теченьем бессмертных потоков, где место любови,
И сладковейные вздохи, и вечно эфир несмутимый, Где от великого Зевса живет
золотая порода — И Радаманф, и Минос, его брат, и Эак справедливый, Где
обретает приют Платонова сила святая, И Пифагор в своей красоте, и все, кто
воздвигли Хор о бессмертной любви, кого провожает по жизни Высших божеств
хранительный сонм; и в небесных застольях Их веселится душа. О, какого достиг
ты блаженства, По совершении стольких трудов отойдя к вековечным Чистым сонмам
божеств, наделенный сверхжизненной жизнью! Так поведем же запев хоровой в
ликующем круге, Музы, о нашем Плотине, который отныне причастен Вечности, и
подпоет вам моя золотая кифара.
В стихах этих сказано, что Плотин был благ, добр, в высшей
степени кроток и сладостен, что и нам самим дано было видеть; сказано, что душа
его была бодрственной и чистой, всегда устремленной к божественному, куда
влекла его всецелая любовь; сказано, что все силы свои он напрягал, чтобы
преодолеть горькие волны этой кровавой жизни. Так божественному этому мужу,
столько раз устремлявшемуся мыслью к первому и высшему богу по той стезе,
которую Платон указал нам в "Пире",[915] являлся сам этот бог, ни облика, ни вида не
имеющий, свыше мысли и всего мысленного возносящийся, тот бог, к которому и я,
Порфирий, единственный раз на шестьдесят восьмом своем году приблизился и
воссоединился. Плотин близок был этой цели — ибо сближение и воссоединение с
всеобщим богом есть для нас предельная цель: за время нашей с ним близости он
четырежды достигал этой цели, не внешней пользуясь силой, а внутренней и
неизреченной. Далее в стихах этих сказано, что сами боги не раз в окольных его
блужданиях ниспосылали ему лучи света, чтобы он узрел божественное и по видению
этому написал то, что он написал; в прозрении своем, говорит Феб, изнутри и
извне увидел ты многую радость, которую немногим дано видеть из занимающихся
философией, — это потому, что человеческое умозрение хоть и выше людского
удела, но при всей своей отрадности с божественным знанием сравниться не может,
ибо не проникает в глубь вещей, как проникают боги. Вот что совершил Плотин и
что с ним совершилось, пока был он в смертном теле, говорит Феб, а избавясь от
этого тела, взошел он в божественные сонмы, где обитают дружба, страстность,
радость, любовь божественная и где обретаются так называемые судьи над душами —
божьи сыны Минос, Радаманф и Эак, к которым он идет не на суд, а для беседы,
подобно иным высочайшим богам; и беседу эту ведут вместе с ними Платон, Пифагор
и все остальные, кто воздвигали хор о бессмертной любви. Вот где родина
блаженнейших божеств, и жизнь их там полна пиров и радостей; такова будет и его
жизнь, завидная самим богам.
Вот что следовало нам сказать о жизни Плотина. Что же
касается расположения и порядка его книг, позаботиться о котором он мне
поручил, а я ему и другим нашим друзьям обещал еще при его жизни, то прежде
всего я почел невозможным сохранить тот случайный порядок, в котором он
выпускал свои книги одну за другой, а вместо этого взял за образец Аполлодора
Афинского и перипатетика Андроника, из которых первый распределил сочинения
комедиографа Эпихарма по десяти сборникам, а второй распределил сочинения
Аристотеля и Феофраста по предметам, схожие к схожим; так и я разделил
пятьдесят четыре книги Плотина на шесть эннеад, [то есть девяток], радуясь
совершенству числа шесть и тем более девятки. В каждой девятке я постарался
соединить предметы родственные, в каждой начиная с вопросов менее значительных.
Итак, первая эннеада заключает сочинения преимущественно
этические: "Что есть животное и что есть человек", "О
добродетелях", "О диалектике", "О счастье", "В
продолжительности ли счастье", "О прекрасном", "О первичном
благе и остальных благах", "В чем зло", "О разумном исходе
из жизни". Таково содержание первой эннеады, обнимающее преимущественно
этические предметы. Вторая эннеада, напротив, посвящена предметам физическим и
обнимает то, что относится к космосу: "О космосе", "О круговом
движении", "Что делают звезды", "О двух материях",
"О силе и действии", "О качестве и виде", "О всеобщем
смешении", "Почему издали вещи кажутся маленькими", "Против
утверждающих, что мир — зло и творец его — злой". Третья эннеада, также
посвященная космосу, обнимает смежные с нею предметы рассмотрения: "О
судьбе", "О провидении, I", "О провидении, II",
"О присущем каждому демоне", "О любви", "О бесстрастии
бестелесного", "О вечности и времени", "О природе, умозрении
и едином", "Разные наблюдения". Эти три эннеады мы расположили в
одном сборнике. Книгу "О прирожденных нам демонах" мы включили в
третью эннеаду, потому что этот предмет рассматривается там с общей точки
зрения и касается, между прочим, вопроса о созвездиях, под которыми люди
рождаются; то же относится и к книге "О любви". Книгу "О
вечности и времени" мы включили сюда потому, что в ней говорится о
времени, а книгу "О природе, умозрении и едином" — потому, что в
ней говорится о природе.
После книг о космосе четвертая эннеада охватывает книги о
душе. Вот они: "О сущности души, I", "О сущности души, II",
"О сомнениях души, I", "О сомнениях души, II", "О
сомнениях души, III, или "О времени", "Об ощущении и
памяти", "О бессмертии души", "О нисхождении души в
тело", "Все ли души — одна душа". Таким образом, четвертая
эннеада обнимает все вопросы о душе, тогда как следующая за ней пятая — об уме,
причем каждая книга здесь касается и того, что выше ума, и того ума, который в
душе, и наконец, идей. Вот эти книги: "О трех начальных субстанциях",
"О становлении и порядке того, что после первичности", "О
познающих субстанциях и о том, что выше их", "Как от первого
происходит последующее и о единице", "О том, что вне ума нет
умопостигаемого, а также о благе", "О том, что не может мыслить то,
что выше сущего, и что есть первое мыслящее, а что второе",
"Существуют ли идеи частных вещей", "Об умопостигаемой
красоте", "Об уме, идеях и бытии". Четвертую и пятую эннеады мы
также расположили в одном сборнике.
Остальные книги составили шестую эннеаду, образующую
отдельный сборник, так что все, написанное Плотином, распределяется по трем
сборникам, из которых первый состоит из трех эннеад, второй из двух, а третий
из одной. В третий сборник и в шестую эннеаду входят следующие книги: "О
родах сущего, I", "О родах сущего, II", "О родах сущего,
III", "О том, что сущее повсюду одно и то же, I", "О том,
что сущее повсюду одно и то же, II", "О числах", "Как
существует множественность идей, а также о благе", "О добровольном и
о воле единого", "О благе и едином". Вот как я распределил по
шести эннеадам эти книги, а всего их пятьдесят четыре.
К некоторым из этих книг я написал и пояснения, но без
всякого порядка, — лишь по просьбе наших товарищей о том, что хотелось им
себе уяснить. Далее, я снабдил все эти книги оглавлениями (за исключением лишь
одной оставшейся "О прекрасном"), сделав это в последовательности
выпуска книг; при этом в оглавлении каждой книги даны не только заглавия, но и
содержание рассуждений, перечисленное по главам. И теперь нам предстоит каждую
из этих книг перечитать, разметить знаками препинания и, если есть какая
погрешность в словах, выправить ее. Что еще потребует нашего вмешательства,
будет видно по мере самой работы.
Марин
|


