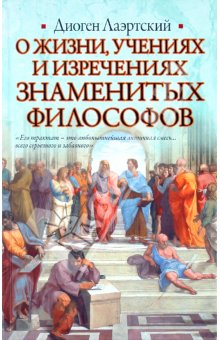
 Увеличить Увеличить |
ЖИЗНЬ ПИФАГОРА
Почти все согласно утверждают, что Пифагор был сыном
Мне-сарха, но разноречиво судят о происхождении самого Мнесарха. Некоторые
считают Мнесарха уроженцем Самоса. Но Клеанф (в V книге "Мифических
повествований") говорит, будто Мнесарх был сириец из сирийского Тира и
будто он однажды в неурожайный год приплыл на Самое по торговым делам, устроил
раздачу хлеба и за это был удостоен самосского гражданства. Потом, так как
Пифагор с детских лет оказался способен ко всем наукам, Мнесарх отвез его в Тир
и привел к халдеям, где Пифагор и овладел всеми их знаниями. Вернувшись оттуда
в Ионию, Пифагор сперва учился при Ферскиде Сиросском, а потом при
Гермодаманте, сыне Креофила, доживавшем век на Самосе.
Впрочем, по словам Клеанфа, иные уверяют даже, что отец
Пифагора был тирренец из тех, которые поселились на Лемносе;[882] оттуда он по делам приехал на Самое,
остался там и получил гражданство; а когда он ездил в Италию, то брал с собою и
мальчика Пифагора; Италия тогда благоденствовала, и потому-то Пифагор
впоследствии опять отправился туда.
Клеанф перечисляет также двух старших братьев Пифагора
Евноста и Тиррена; Аполлоний (в книгах про Пифагора) упоминает и мать Пифагора
— Пифаиду из потомства Анкея, основателя Самоса; а некоторые, по свидетельству
Аполлония, считали его отпрыском Аполлона и Пифаиды и лишь на словах сыном
Мнесарха. Так говорит и один самосский поэт:
Фебу, Зевесову сыну, рожден Пифагор Пифаидой — Той, что в
Самосской земле всех затмевала красой.
Учился же он, по словам Аполлония, не только у Фсрекида, но
и у Гсрмодаманта и у Анаксимандра.
Дурид Самосский во II книге «Времясчислсния» добавляет, что
у Пифагора был сын Аримнест, наставник Демокрита; этот Аримнест, воротясь из
изгнания, поставил за это в храм Геры медную статую двух локтей в поперечнике,
сделав на ней такую надпись:
Сын Пифагора меня Аримнест в этом храме поставил, Миру в
ученых речах многую мудрость явив.
Статую эту похитил тот Сим, который присвоил сочинения
"О гармонии" и «Канон» и издал их как свои; там были статуи всех семи
наук.[883] Сим похитил одну из них,
а после этого исчезли и остальные, указанные в посвятительной надписи. А другие
пишут, что от критянки Феано, дочери Пифанакта, у Пифагора был сын Телавг и
дочь Мня; иные упоминают и дочь Аригноту, от которой даже сохранились
пифагорейские сочинения. И Тимсй рассказывает, что дочь Пифагора в девичестве
была в Кротоне первой в хороводе девиц, а в замужестве — первой в хороводе
замужних и что дом ее кротонцы посвятили Деметрс, а переулок, где он стоял, —
Музам.
Наконец, Лин в IV книге «Истории» упоминает, что разногласия
были даже относительно места рождения Пифагора: "Если ты затруднишься
назвать родину и город, гражданином которых случилось быть этому мужу, то пусть
это тебя не смущает: иные говорят, что он с Самоса, иные — что из Флиунта, иные
— что из Метапонта".
Что касается его учения, то большинство писавших утверждают,
что так называемые математические науки он усвоил от египтян, халдеев и
финикиян (ибо геометрией издревле занимались египтяне, числами и подсчетами
финикияне, а наблюдением небес — халдеи), а от магов услышал о почитании богов
и о прочих жизненных правилах. Первое знакомо многим, потому что записано в
книгах; зато прочие жизненные правила известны менее. О чистоте своей он так
заботился (пишет Евдокс в VII книге "Объезда земли"), что избегал и
убийств и убийц: не только воздерживался от животной пищи, но даже сторонился
поваров и охотников. Антифонт в книге "О жизни мужей, отличавшихся
добродетелью" рассказывает, какую выносливость выказал Пифагор в Египте.
Пифагор услышал, как хорошо в Египте воспитывают жрецов, и захотел сам получить
такое воспитание; он упросил тирана Поликрата написать египетскому царю
Амасису, своему другу и гостеприимцу, чтобы тот допустил Пифагора к этому
обучению. Приехав к Амасису, он получил от него письмо к жрецам; побывав в
Гелиополе, отправился в Мемфис, будто бы к жрецам постарше; но, увидев, что на
самом деле и здесь то же, что и в Гелиополе, из Мемфиса он таким же образом
пустился в Диосполь. Там жрецы из страха перед царем не решались выдать ему
свои заветы и думали отпугнуть его от замысла безмерными тяготами, назначая ему
задания, трудные и противные эллинским обычаям. Однако он исполнял их с такой
готовностью, что они в недоумении допустили его и к жертвоприношениям и к
богослужениям, куда не допускался никто из чужеземцев.
Воротившись в Ионию, он устроил у себя на родине училище;
оно до сих пор называется Пифагоровой оградой, и самосцы там собираются на
советы по общественным делам. А за городом он приспособил для занятий
философией одну пещеру и проводил там почти все свои дни и ночи, беседуя с
друзьями. Но в сорок лет (по словам Аристоксена) он увидел, что тирания
Поликрата слишком сурова, чтобы свободный человек мог выносить такую
деспотическую власть; и тогда он собрался и отправился в Италию.[884]
Многие подробности об этом философе, которых я не хочу
пропустить, сообщает Диоген в книге "Чудеса по ту сторону Фулы". Он
говорит, что Мнесарх был тирренцем — из тех тирренцев, которые заселили Лемнос,
Имброс и Скирос, что он объездил много городов и стран и однажды нашел под
большим красивым белым тополем грудного младенца, который лежал, глядя прямо в
небо, и не мигая смотрел на солнце, а во рту у него была маленькая и тоненькая
тростинка, как свирель, и питался он росою, падавшею с тополя. С изумлением это
увидев, Мнесарх решил, что мальчик этот — божественной породы, взял его с
собой, а когда он вырос, отдал его самосскому жителю Андроклу, который поручил
мальчику управлять своим домом. Мнесарх назвал мальчика Астреем[885] и, будучи богатым
человеком, воспитал его вместе с тремя своими сыновьями, Евиостом, Тирреном и
Пифагором, из которых младший был усыновлен тем же Андроклом.
В детстве Пифагор учился у кифариста, живописца и атлета, в
юности пришел в Милет, к Анаксимандру учиться геометрии и астрономии. Ездил он,
по словам Диогена, и в Египет, и к арабам, и к халдеям, и к евреям; там он
научился и толкованию снов и первый стал гадать по ладану. В Египте он жил у
жрецов, овладел всею их мудростью, выучил египетский язык с его тремя азбуками
— письменной, священной и символической (первая на них изображает обычный язык,
а две другие — иносказательный и загадочный)[886] и
узнал многое о богах. У арабов он жил вместе с царем, а в Вавилоне — с
халдеями; здесь побывал он и у Забрата,[887] от
которого принял очищение от былой скверны, узнал, от чего должен воздерживаться
взыскующий муж, в чем состоят законы природы и каковы начала всего. От этих-то
народов и вывез Пифагор в своих странствиях главную свою мудрость. Пифагору и
подарил Мнесарх мальчика Астрея; и Пифагор принял его, изучил его лицо и тело в
движении и покое, а затем дал ему воспитание. Ибо Пифагор первый достиг такого
знания человека и умения распознавать природу каждого, что ни с кем не дружил и
не знакомился, не определив по лицу, каков этот человек. Был у него и другой
мальчик, привезенный из Фракии, по имени Залмоксис; когда он родился, на него
накинули медвежью шкуру, по-фракийски называемую залмою, отсюда и его имя.
Пифагор его любил и научил его наблюдению небес, священнослужениям и иному
почитанию богов. Мальчик этот (которого, по другим сведениям, звали Фалес)
почитается у варваров богом вместо Геракла.[888] Дионисофан
сообщает, что он был рабом у Пифагора, но попал в плен к разбойниках, и был
заклеймен выжженными на лбу знаками, когда хозяин его Пифагор из-за гражданских
смут находился в изгнании. А другие уверяют, что имя Залмоксис означает
«чужеземец».
Когда на Делосе заболел Ферекид, Пифагор за ним ухаживал, а
когда он умер, то похоронил его и затем вернулся на Самос, чтобы повидаться с
Гермодамантом и Креофилом. Здесь он прожил некоторое время; тогда-то он и помог
самосскому атлету Евримену, который благодаря Пифагоровой мудрости, несмотря на
свой малый рост, сумел осилить и победить на Олимпийских играх многих рослых
противников. Дело в том, что остальные атлеты, по старинному обычаю, питались
сыром и смоквами, а Евримен по совету Пифагора первый стал ежедневно есть
назначенное количество мяса и от этого набираться сил. Однако потом,
усовершенствовавшись в мудрости, Пифагор посоветовал ему хоть и бороться, но не
побеждать, ибо человек должен принимать на себя труды, но не навлекать,
побеждая, зависти: ведь и увенчанные победители небезупречны.
После этого, когда Самое подпал под тираническую власть
Поликрата, Пифагор рассудил, что не пристало философу жить в таком государстве,
и решил отправиться в Италию. Остановившись по пути в Дельфах, он написал на
гробнице Аполлона элегические стихи о том, что Аполлон был. сын Силена, убитый
Пифоном и погребенный в месте по имени Трипод; а имя это оно получило от трех
дочерей Триопа,[889] которые
там его, Аполлона, оплакивали. Приехав на Крит, он побывал у жрецов Морга,
одного из идейских дактилей,[890] и
принял от них очищение камнем-громовником, ложась ниц поутру у моря, а ночью у
реки в венке из шерсти черного барана. Спускался он там и в так называемую
идейскую пещеру, одетый в черную шкуру, пробыл там положенные трижды девять
дней, совершил всесожжение Зевсу, видел его застилаемый ежегодно престол, а на
гробнице Зевса высек надпись под заглавием "Пифагор Зевсу",
начинающуюся так:
Зан здесь лежит, опочив, меж людьми называемый Зевсом.[891]
Достигнув Италии, он появился в Кротоне (об этом говорит
Дикеарх) и сразу привлек там всеобщее уважение как человек, много
странствовавший, многоопытный и дивно одаренный судьбою и природою: с виду он
был величав и благороден, а красота и обаяние были у него и в голосе, и в
обхождении, и во всем. Сперва он взволновал городских старейшин; потом, долго и
хорошо побеседовав с юношами, он по просьбе властей обратил свои увещания к
молодым; и наконец, стал говорить с мальчиками, сбежавшимися из училищ, и даже
с женщинами, которые тоже собрались на него посмотреть. Все это умножило
громкую его славу и привело к нему многочисленных учеников из этого города, как
мужчин, так и женщин, среди которых достаточно назвать знаменитую Феано; даже
от соседних варваров приходили к нему и цари и вожди. Но о чем он говорил
собеседникам, никто не может сказать с уверенностью, ибо не случайно окружали
они себя молчанием; но прежде всего шла речь о том, что душа бессмертна, затем
— что она переселяется в животных и, наконец, что все рожденное вновь рождается
через промежутки времени, что ничего нового на свете нет и что все живое должно
считаться родственным друг другу. Все эти учения первым принес в Элладу, как
кажется, именно Пифагор.
Он так привлекал к себе всех, что одна только речь,
произнесенная при въезде в Италию (говорит Никомах), пленила своими
рассуждениями более двух тысяч человек; ни один из них не вернулся домой, а все
они вместе с детьми и женами устроили огромное училище в той части Италии,
которая называется Великой Грецией, поселились при нем, а указанные Пифагором
законы и предписания соблюдали ненарушимо, как божественные заповеди. Имущество
они считали общим; а Пифагора причисляли к богам. Поэтому, овладев так
называемой "тетрактидой"[892] ["четверкой"],
одним из приемов, составлявших его тайное учение, — впрочем, приемом
изящным и приложимым ко многим физическим вопросам, — они стали ею
клясться, поминая Пифагора как бога и прибавляя ко всякому своему утверждению:
Будь свидетелем тот, кто людям принес тетрактиду, Сей для
бессмертной. души исток вековечной природы!
Поселившись здесь, он увидел, что города Италии и Сицилии
находятся в рабстве друг у друга, одни давно, другие недавно, и вернул им
вольность, поселив в них помышления о свободе через своих учеников, которые
были в каждом городе. Так он освободил Кротон, Сибарис, Катанию, Регий, Гимеру,
Акрагант, Тавромений и другие города, а некоторым, издавна терзаемым распрями с
соседями, даже дал законы через Харонда Катанского и Залевка Локрийского. А
Симих, тиран Кентурип, после его уроков сложил свою власть и роздал свое
богатство, частью — сестре, частью согражданам. Даже луканы, мессапы, певкетии,
римляне, по словам Аристоксена, приходили к нему. И не только через своих
друзей умирял он раздоры внутренние и междоусобные, но и через их потомков во
многих поколениях и по всем городам Италии и Сицилии. Ибо для всех, и для
многих и для немногих, было у него на устах правило: беги от всякой хитрости,
отсекай огнем, железом и любым орудием от тела болезнь, от души — невежество,
от утробы — роскошество, от города — смуту, от семьи — ссору, от всего, что
есть, неумеренность. Если верить рассказам о нем старинных и надежных писателей,
то наставления его обращались даже к бессловесным животным. В давнийской земле,
где жителей разоряла одна медведица, он, говорят, ваял ее к себе, долго гладил,
кормил хлебом и плодами и, взявши клятву не трогать более никого живого,
отпустил; она тотчас убежала в горы и леса, но с тех пор не видано было, чтобы
она напала даже на скотину. В Таренте он увидел быка на разнотравье, жевавшего
зеленые бобы, подошел к пастуху в посоветовал сказать быку, чтобы тот этого не
делал. Пастух стал смеяться и сказал, что не умеет говорить по-бычьи; тогда
Пифагор, сам подошел к быку и прошептал ему что-то на ухо, после чего тот не
только тут же пошел прочь от бобовника, но и более никогда не касался бобов, а
жил с тех пор и умер в глубокой старости в Таренте при храме Геры, где слыл
священным быком и кормился хлебом, который подавали ему прохожие. А на
Олимпийских играх, когда Пифагор рассуждал с друзьями о птицегаданиях,
знамениях и знаках, посылаемых от богов вестью тем, кто истинно боголюбив, то
над ним, говорят, вдруг появился орел, и он поманил его к себе, погладил и
опять отпустил. И, повстречав однажды рыбаков, тащивших из моря сеть, полную
рыбы, он точно им сказал заранее, сколько рыб в их огромном улове; а на вопрос
рыбаков, что он им прикажет делать, если так оно и выйдет, он велел тщательно
пересчитать всех рыб и тех, которые окажутся живы, отпустить в море. Самое же
удивительное, что все немалое время, пока шел счет, ни одна рыба, вытащенная из
воды, в его присутствии не задохнулась.
Многим, кто приходил к нему, он напоминал о прошлой их
жизни, которую вела их душа, прежде чем облечься в их тело. Сам он был
Евфорбом, сыном Памфа, и доказывал это неопровержимо; а из стихов Гомера он
больше всего хвалил и превосходно пел под лиру следующие строки:
Кровью власы оросилися, сродные девам Харитам, Кудри,
держимые пышно златой и серебряной связью. Словно как маслина древо, которое
муж возлелеял В уединении, где искипает ручей многоводный, Пышно кругом
разрастается; зыблют ее, прохлаждая, Все тиховейные ветры, покрытую цветом
сребристым; Но внезапная буря, нашедшая с вихрем могучим, С корнем из ямины
рвет и по черной земле простирает, — Сына такого Панфоева, гордого сердцем
Евфорба Царь Менелай низложил и его обнажал от оружий.[893]
А общеизвестные рассказы о том Евфорбовом щите, который
среди троянского оружия был посвящен в Микенском храме Гере Аргивской, нет
надобности пересказывать.
Говорят, он переходил однажды со многочисленными спутниками
реку Кавкас[894] и
заговорил с ней, а она при всех внятным и громким голосом ему отвечала:
"Здравствуй, Пифагор!" В один и тот же день он был и в италийском
Метапонте, и в сицилийском Тавромении, и тут и там разговаривая с учениками;
это подтверждают почти все, а между тем от одного города до другого большой
путь по суше и по морю, которого не пройти и за много дней. Общеизвестно и то,
как он показал гиперборейцу Абариду, жрецу гиперборейского Аполлона, свое бедро
из золота в подтверждение его слов, что Пифагор и есть Аполлон Гиперборейский;[895] а когда однажды друзья
его, глядя на подплывший корабль, гадали, прицениваясь, о его товарах, Пифагор
сказал: "Быть у вас покойнику!" — и точно, на подплывшем корабле
оказался покойник. Бесконечно много и других рассказов, еще более божественных
и дивных, повествуется об этом муже согласно и уверенно; короче сказать, ни о
ком не говорят так много и так необычайно.
Рассказывают также и о том, как он безошибочно предсказывал
землетрясения, быстро останавливал повальные болезни, отвращал ураганы и
градобития, укрощал реки и морские волны, чтобы они открыли легкий переход ему
и спутникам; а у него это переняли Эмпедокл, Эпименид[896] и Абарид, которые тоже все делали подобное
не раз, как это явствует из их стихов, — недаром Эмпедокл и прозван был
Ветроотвратителем, Эпименид — Очистителем, Абарид — Воздухобежцем, как будто он
получил в дар от Аполлона стрелу, на которой перелетал и реки, и моря, и
бездорожья, словно бежал по воздуху. Некоторые думают, что то же самое делал и
Пифагор, когда в один и тот же день беседовал с учениками и в Метапонте, и в
Тавромении. А песнями, напевами и лирной игрой он унимал душевные недуги и
телесные; этому он научил и своих друзей, сам же умел слышать даже вселенскую
гармонию, улавливая созвучия всех сфер и движущихся по ним светил, чего нам не
дано слышать по слабости нашей природы. Это подтверждает и Эмпедокл, говоря о
нем так:
Жил среди них некий муж, умудренный безмерным познаньем,
Подлинно мыслей высоких владевший сокровищем ценным, В разных искусствах
премудрых свой ум глубоко изощривший. Ибо как скоро всю силу ума напрягал он к
познанью, То без труда созерцал все несчетные мира явленья, За десять или за
двадцать людских поколений провидя.[897]
"Безмерное познанье", "созерцал несчетные
мира явленья", "сокровище мыслей" и прочие выразительные слова
обозначают особенную и ни с кем не сравнимую остроту и зрения, и слуха, и мысли
в существе Пифагора. Звуки семи планет, неподвижных звезд и того светила, что
напротив нас и называется Противоземлей,[898] он
отождествлял с девятью Музами, а согласие и созвучие их всех в едином
сплетении, вечном и безначальном, от которого каждый звук есть часть и
истечение, он называл Мнемосиной.
Образ повседневной его жизни описывает Диоген. Он
заповедовал всем избегать корыстолюбия и тщеславия, ибо корысть и слава больше
всего возбуждают зависть, избегать также и многолюдных сборищ. Занятия свои он
начинал дома поутру, успокоив душу лирною игрою под пение старинных Фалетовых
пеанов. Пел он также и стихи Гомера и Гесиода, считая, что они успокаивают
душу; не чуждался и некоторых плясок, полагая, что здоровье и красивые движения
на пользу телу. Прогулки он предпочитал не со многими, а вдвоем или втроем, в
святилищах или в рощах, замечая при этом, что, где тише всего, там и краше
всего.
Друзей он любил безмерно; это он сказал, что у друзей все
общее и что друг — это второй я. Когда они были в добром здоровье, он с ними
беседовал, когда были больны телом, то лечил их; когда душою, то утешал их, как
сказано, иных заговорами и заклинаниями, а иных музыкою. От телесных недугов у
него были напевы, которыми он умел облегчать страждущих, а были и такие,
которые помогали забыть боль, смягчить гнев и унять вожделение.
За завтраком он ел сотовый мед, за обедом — просяной или
ячменный хлеб, вареные или сырые овощи, изредка жертвенное мясо, да и то не от
всякой части животного. Собираясь идти в святилища богов и подолгу там
оставаться, он принимал средства от голода и жажды; средство от голода
составлял он из макового семени, сезама, оболочки морского лука, отмытого до
того, что он сам очищал все вокруг, из цветов асфоделя, листьев мальвы, ячменя
и гороха, нарубленных равными долями и разведенных в гиметтском меду; средство
от жажды — из огуречного семени, сочного винограда с вынутыми косточками, из
кориандрового цвета, семян мальвы и портулака, тертого сыра, мучного просева и молочных
сливок, замешанных на меду с островов. Этому составу, говорил он, научила
Деметра Геракла, когда его послали в безводную Ливию.
Поэтому тело его, как по мерке, всегда оставалось одинаково,
а не бывало то здоровым, то больным, то потолстевшим, то похудевшим, то
ослабелым, то окрепшим. Точно так же и лицо его являло всегда одно и то же
расположение духа — от наслаждения оно не распускалось, от горя не стягивалось,
не выказывало ни радости, ни тоски, и никто не видел его ни смеющимся, ни
плачущим. Жертвы богам приносил он необременительно, угождая им мукою,
лепешками, ладаном, миррою и очень редко — животными, кроме разве что молочных
поросят. И даже когда он открыл, что в прямоугольном треугольнике гипотенуза
имеет соответствие с катетами, он принес в жертву быка, сделанного из
пшеничного теста, — так говорят надежнейшие писатели.[899]
Разговаривая с собеседниками, он их поучал или описательно,
или символично. Ибо у него было два способа преподавания, одни ученики
назывались «математиками», то есть познавателями, а другие «акусматиками», то
есть слушателями: математиками — те, кто изучали всю суть науки и полнее и
подробнее, акусматиками — те, кто только прослушивали обобщенный свод знаний
без подробного изложения. Учил он вот чему: о породе божеств, демонов и героев
говорить и мыслить с почтением; родителей и благодетелей чтить; законам
повиноваться; богам поклоняться не мимоходом, а нарочно для этого выйдя из
дому; небесным богам приносить в жертву нечетное, а подземным — четное. Из двух
противодействующих сил лучшую он называл Единицею, светом, правостью,
равенством, прочностью и стойкостью; а худшую — Двоицей, мраком, левизной,
неравенством, зыбкостью и переменностью. Еще он учил так: растения домашние и
плодоносные, и животных, не вредных для человека, щадить и не губить; а
вверенное тебе слово хранить так же честно, как вверенные тебе деньги.
Вещей, к которым стоит стремиться и которых следует
добиваться, есть на свете три: во-первых, прекрасное и славное, во-вторых,
полезное для жизни, в-третьих, доставляющее наслаждение. Наслаждение имеется в
виду не пошлое и обманчивое, но прочное, важное, очищающее от хулы. Ибо
наслаждение бывает двоякого рода: одно, утоляющее роскошествами ваше
чревоугодие и сладострастие, он уподоблял погибельным песням Сирен, а о другом,
которое направлено на все прекрасное, праведное и необходимое для жизни,
которое и переживаешь сладко и, пережив, не жалеешь, он говорил, что оно
подобно гармонии Муз. Две есть поры, самые важные для размышлений: когда идешь
ко сну и когда встаешь от сна. И в тот и в другой час следует окинуть взором,
что сделано и что предстоит сделать, потребовать с себя отчета во всем
происходящем, позаботиться о будущем. Перед сном каждый должен говорить себе
такие стихи:
Не допускай ленивого сна на усталые очи, Прежде чем на три
вопроса о деле дневном не ответишь; Что я сделал? чего я не сделал? и что мне
осталось?
А перед тем, как встать, — такие:
Прежде чем встать от сладостных снов, навеваемых ночью,
Думой раскинь, какие дела тебе день приготовил.
Таковы были его поучения; главное же было — стремиться к
истине, ибо только это приближает людей к богу: ведь от магов он знал, что бог,
которого они называют Оромаздом, телом своим подобен свету, а душою — истине.
Учил он и другому — тому, что усвоил, по его словам, от дельфийской Аристоклеи.[900] А иное он высказывал
символически, по примеру посвященных (многое из этого записал Аристотель):
например, море он называл «слезой», двух небесных Медведиц — "руками
Реи", Плеяды — "лирою Муз", планеты — "псами
Персефоны", а звук от удара по меди считал голосом какого-то демона,
заключенного в этой меди. Были символы и другого рода, вот какие:
"Через весы не шагай", то есть избегай алчности;
"Огня ножом не вороши", то есть человека гневного и надменного
резкими словами не задевай; "Венка не обрывай", то есть не нарушай
законов, ибо законами венчается государство. В таком же роде и другие символы,
например: "Не ешь сердца", то есть не удручай себя горем; "Не
садись на хлебную меру", то есть не живи праздно; "Уходя, не
оглядывайся", то есть перед смертью не цепляйся за жизнь; "По торной
дороге не ходи" — этим он велел следовать не мнениям толпы, а мнениям
немногих понимающих; "Ласточек в доме не держи", то есть не принимай
гостей болтливых и несдержанных на язык; "Будь с тем, кто ношу взваливает,
не будь с тем, кто ношу сваливает", — этим он велел поощрять людей не
к праздности, а к добродетели и к труду; "В перстне изображений не
носи", то есть не выставляй напоказ перед людьми, как ты судишь и думаешь
о богах; "Богам делай возлияния через ушко сосудов" — этим он
намекает, что богов должно чтить музыкою и песнопениями, потому что это они
доходят до нас через уши; "Не ешь недолжного, а именно ни рождения, ни
приращения, ни начала, ни завершения, ни того, в чем первооснова всего"
этим он запрещал вкушать от жертвенных животных чресла, яички, матку, костный
мозг, ноги и голову: первоосновой он называл чресла, ибо животные держатся на
них, как на опоре; рождением — яички и матку, силою которых возникает все
живое; приращением — костный мозг, потому что он — причина роста для всякого
животного; началом — ноги, а завершением — голову, в которой высшая власть над
всем телом.
Бобов он запрещал касаться, все равно как человеческого
мяса. Причину этого, говорят, объяснял он так: когда нарушилось всеобщее начало
и зарождение, то многое в земле вместе сливалось, сгущалось и перегнивало, а
потом из этого вновь происходило зарождение и разделение — зарождались
животные, прорастали растения, и тут-то из одного и того же перегноя возникли
люди и проросли бобы. А несомненные доказательства этому он приводил такие:
если боб разжевать и жвачку выставить ненадолго на солнечный зной, а потом
подойти поближе, то можно почувствовать запах человеческой крови; если же в
самое время цветения бобов взять цветок, уже потемневший, положить в глиняный
сосуд, закрыть крышкой и закопать в землю на девяносто дней, а потом откопать и
открыть, то вместо боба в нем окажется детская голова или женская матка. Кроме
бобов запрещал он употреблять в пищу и разное другое — крапиву, рыбу-триглу, да
и почти все, что ловится в море.
О себе он говорил, что живет уже не в первый раз сперва, по
его словам, он был Евфорбом, потом Эфалидом, потом Гермотимом, потом Пирром и
наконец стал Пифагором. Этим он доказывал, что душа бессмертна и что, приняв
очищение, можно помнить и прошлую свою жизнь.
Философия, которую он исповедовал, целью своей имела
вызволить и освободить врожденный наш разум от его оков и цепей; а без ума
человек не познает ничего здравого, ничего истинного и даже неспособен ничего
уловить какими бы то ни было чувствами, — только ум сам по себе все видит
и все слышит, прочее же и слепо и глухо.
А для тех, кто уже совершил очищение, есть некоторые
полезные приемы. Приемы он придумал такие: медленно и постепенно, всегда одним
и тем же образом, начиная от все более мелкого, переводить себя к созерцанию
вечного и сродного ему бестелесного, чтобы полная и внезапная перемена не
спугнула и не смутила нас, столь давно привыкших к такой дурной пище. Вот
почему для предварительной подготовки душевных очей к переходу от всего
телесного, никогда нимало не пребывающего в одном и том же состоянии, к истинно
сущему он обращался к математическим и иным предметам рассмотрения, лежащим на
грани телесного и бестелесного (эти предметы трехмерны, как все телесное, но
плотности не имеют, как все бестелесное), — это как бы искусственно
приводило душу к потребности в [настоящей ее] пище. Подводя с помощью такого
приема к созерцанию истинно сущего, он дарил людям блаженство, — для этого
и нужны были ему математические упражнения.
Что же касается учения о числах, то им он занимался вот для
чего (так пишут многие, и среди них — Модерат из Гадира, в 11 книгах кратко
изложивший мнения пифагорейцев). Первообразы и первоначала, говорил он, не
поддаются ясному изложению на словах, потому что их трудно уразуметь и трудно
высказать, оттого и приходится для ясности обучения прибегать к числам. В этом
мы берем пример с учителей грамматики и геометрии. Ведь именно так учителя
грамматики, желая передать звуки и их значение, прибегают к начертанию букв и
на первых порах обучения говорят, будто это и есть звуки, а потом уже
объясняют, что буквы — это совсем не звуки, а лишь средство, чтобы дать понятие
о настоящих звуках. Точно так же учителя геометрии, не умея передать на словах
телесный образ, представляют его очертания на чертеже и говорят "вот
треугольник", имея в виду, что треугольник — это не то, что сейчас
начерчено перед глазами, а то, о чем этим начертанием дается понятие. Вот так и
пифагорейцы поступают с первоначальными понятиями и образами: они не в силах
передать словесно бестелесные образы и первоначала и прибегают к числам, чтобы
их показать. Так, понятие единства, тождества, равенства, причину единодушия,
единочувствия, всецелости, то, из-за чего все вещи остаются самими собой,
пифагорейцы называют Единицей; Единица эта присутствует во всем, что состоит из
частей, она соединяет эти части и сообщает им единодушие, ибо причастна к
первопричине. А понятие различия, неравенства, всего, что делимо, изменчиво и
бывает то одним, то другим, они называют Двоицею; такова природа Двоицы и во
всем, что состоит из частей. И нельзя сказать, что эти понятия у пифагорейцев
были, а у остальных философов отсутствовали, — мы видим, что и другие
признают существование сил объединяющей и разъединяющей целое, и у других есть
понятия равенства, несходства и различия. Эти-то понятия пифагорейцы для
удобства обучения и называют Единицей и Двоицей; это у них значит то же самое,
что «двоякое», «неравное», «инородное». Таков же смысл и других чисел: всякое
из них соответствует какому-то значению. Так, все, что в природе вещей имеет
начало, середину и конец, они по такой его природе и виду называют Троицей, и
все, в чем есть середина, считают троичным, и все, что совершенно, — тоже;
все совершенное, говорят они, исходит из этого начала и им упорядочено, поэтому
его нельзя назвать иначе чем Троицей; и, желая возвести нас к понятию
совершенства, они ведут нас через этот образ. То же самое относится и к другим
числам. Вот на каких основаниях располагают они вышеназванные числа. Точно так
же и последующие числа подчинены у них единому образу и значению, который они
называют Десяткою, [то есть "обымательницей"] (будто слово это
пишется не «декада», а "дехада"[901]).
Поэтому они утверждают, что десять — это совершенное число, совершеннейшее из
всех, и что в нем заключено всякое различие между числами, всякое отношение их
и подобие. В самом деле, если природа всего определяется через отношения и
подобия чисел и если все, что возникает, растет и завершается, раскрывается в
отношениях чисел, а всякий вид числа, всякое отношение и всякое подобие
заключены в Десятке, то как же не назвать Десятку числом совершенным?
Вот каково было использование чисел у пифагорейцев. Из-за
этого и случилось так, что самая первая философия пифагорейцев заглохла:
во-первых, излагалась она загадками, во-вторых, записана она была по-дорийски,
а так как это наречие малопонятное, то казалось, что и учения, на нем
излагаемые, не подлинны и искажены, и, в-третьих, многие, выдававшие себя за
пифагорейцев, на самом деле вовсе таковыми не были. Наконец, пифагорейцы
жалуются, что Платон, Аристотель, Спевсипп, Аристоксен, Ксенократ присвоили
себе все их выводы, изменив разве лишь самую малость, а потом собрали все самое
дешевое, пошлое, удобное для извращения и осмеяния пифагорейства от позднейших
злопыхательствующих завистников и выдали это за подлинную суть их учения.
Впрочем, это случилось уже впоследствии.
Пифагор со всеми друзьями немалое время жил в Италии,
пользуясь таким почтением, что целые государства вверяли себя его ученикам. Но
в конце концов против них скопилась зависть и сложился заговор, а случилось это
вот каким образом. Был в Кротоне человек по имени Килон, первый между
гражданами и богатством, и знатностью, и славою своих предков, но сам
обладавший нравом тяжелым и властным, а силою друзей своих и обилием богатств
пользовавшийся не для добрых дел; и вот он-то, полагая себя достойным всего
самого лучшего, почел за нужнейшее причаститься и Пифагоровой философии. Он
пришел к Пифагору, похваляясь и притязая стать его другом. Но Пифагор сразу
прочитал весь нрав этого человека по лицу его и остальным телесным признакам,
которые он примечал у каждого встречного, и, поняв, что это за человек, велел
ему идти прочь и не в свои дела не мешаться. Килон почел себя этим обиженным и
оскорбился; а нрава он был дурного и в гневе безудержен. И вот, созвав своих
друзей, он стал обличать перед ними Пифагора и готовить с ними заговор против
философа и его учеников. И когда после этого друзья Пифагора сошлись на
собрании в доме атлета Милона (а самого Пифагора, по этому рассказу, между ними
не было: он уехал на Делос к своему учителю Ферекиду Сиросскому, заболевшему
так называемой вшивой болезнью, чтобы там ходить за ним и лечить его), то дом
этот был подожжен со всех сторон и все собравшиеся погибли; только двое
спаслись от пожара, Архипп и Лисид (рассказывает Неанф), и Лисид бежал в Элладу
и стал там другом и учителем Эпаминонда. А по рассказу Дикеарха и других
надежных писателей, при этом покушении был и сам Пифагор, потому что Ферекид
скончался еще до его отъезда из Самоса; сорок друзей его были застигнуты в доме
на собрании, остальные перебиты порознь в городе, а Пифагор, лишась друзей,
пустился искать спасения сперва в гавань Кавлония, а затем в Локры. Локрийцы,
узнав об этом, выслали к рубежу своей земли избранных своих старейшин с такими
словами к Пифагору: "Мы знаем, Пифагор, что ты мудрец и человек предивный,
но законы в нашем городе безупречные, и мы хотим при них жить, как жили, а ты
возьми у нас, коли что надобно, и ступай отсюда прочь, куда знаешь".
Повернув таким образом прочь от Локров, Пифагор поплыл в Тарент, а когда и в
Таренте случилось такое же, как и в Кротоне, то перебрался в Метапонт. Ибо
повсюду тогда вспыхивали великие мятежи, которые и посейчас у историков тех
мест именуются пифагорейскими: пифагорейцами назывались там все те
единомышленники, которые следовали за философом.
Здесь, в Метапонте, Пифагор, говорят, и погиб: он бежал от
мятежа в святилище Муз и оставался там без пищи целых сорок дней. А другие
говорят, что когда подожгли дом, где они собирались, то друзья его, бросившись
в огонь, проложили в нем дорогу учителю, чтобы он по их телам вышел из огня,
как по мосту; но, спасшись из пожара и оставшись без товарищей, Пифагор так
затосковал, что сам лишил себя жизни.
Бедствие это, обрушившись на людей, задело вместе с этим и
науку их, потому что до этих пор они ее хранили неизреченно в сердцах своих, а
вслух высказывали лишь темными намеками. И от Пифагора сочинений не осталось, а
спасшиеся Архипп, Лисид и остальные, кто был тогда на чужбине, сберегли лишь
немногие искры его философии, смутные и рассеянные. В одиночестве, угнетенные
случившимся, скитались они где попало, чуждаясь людского общества. И тогда,
чтобы не погибла вовсе в людях память о философии и чтобы за это не
прогневались на них боги, стали они составлять сжатые записки, собирать
сочинения старших и все, что сами помнили, и каждый оставлял это там, где
случалось ему умереть, а сыновьям, дочерям и жене завещал никому это из дому не
выносить; и это завещание они долго соблюдали, передавая его от потомка к
потомку.
Можно думать (говорит Никомах), что недаром они уклонялись
от всякой дружбы с посторонними, а взаимную свою дружбу бережно хранили и
обновляли,'так что даже много поколений спустя дружба эта в них оставалась
крепка; доказательство этому- рассказ, который Аристоксен (по словам его в
жизнеописании Пифагора) сам слышал от Дионисия, сицилийского тирана, когда тот,
лишившись власти, жил в Коринфе и учил детей грамоте.[902] Рассказ этот таков. Жалобами, слезами и
тому подобным люди эти гнушались более всего и улещиваниями, мольбами и
просьбами — тоже. И вот Дионисий пожелал проверить на опыте, точно ли говорят,
будто они и под страхом смерти сохраняют друг другу верность. Сделал он так. Он
приказал схватить Финтия и привести к себе, и Финтию он заявил, что тот повинен
в преступном заговоре, изобличен и приговорен к смерти. Финтий ответил, что,
коли так решено, он просит отпустить его лишь до вечера, чтобы кончить все дела
свои и Дамоновы: он Дамону товарищ и друг, и притом старший, так что главные их
заботы по хозяйству лежат на нем. Пусть его отпустят, а Дамон побудет
заложником. Дионисий согласился; послали за Дамоном, он услышал, в чем дело, и
с готовностью остался заложником, пока не вернется Финтий. Изумился Дионисий; а
те, кому первому пришло в голову такое испытание, потешались над Дамоном, не
сомневаясь, что он брошен на верную смерть. Но не успело закатиться солнце, как
Финтий воротился, чтоб идти на казнь. Все были поражены; а Дионисий принял
обоих в объятия, расцеловал и просил их принять его третьим в их дружеский
союз, но как он об этом ни умолял, они не согласились. Все это Аристоксен, по
его словам, слышал от самого Дионисия. А Гиппобот и Неанф рассказывают это о
Миллии и Тимихе.[903]
Порфирий
|


