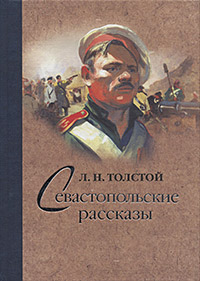
 Увеличить Увеличить |
14
Оставшись наедине с своими мыслями, первым чувством Володи
было отвращение к тому беспорядочному, безотрадному состоянию, в котором
находилась душа его. Ему захотелось заснуть и забыть все окружающее, а главное
– самого себя. Он потушил свечку, лег на постель и, сняв с себя шинель,
закрылся с головою, чтобы избавиться от страха темноты, которому он еще с
детства был подвержен. Но вдруг ему пришла мысль, что прилетит бомба, пробьет
крышу и убьет его. Он стал вслушиваться; над самой его головой слышались шаги
батарейного командира.
«Впрочем, ежели и прилетит, – подумал он, – то
прежде убьет наверху, а потом меня; по крайней мере, не меня одного». Эта мысль
успокоила его немного; он стал было засыпать. «Ну что, ежели вдруг ночью
возьмут Севастополь и французы ворвутся сюда? Чем я буду защищаться?» Он опять
встал и походил по комнате. Страх действительной опасности подавил таинственный
страх мрака. Кроме седла и самовара, в комнате ничего твердого не было. «Я
подлец, я трус, мерзкий трус!» – вдруг подумал он и снова перешел к тяжелому
чувству презрения, отвращения даже к самому себе. Он снова лег и старался не
думать. Тогда впечатления дня невольно возникали в воображении при
неперестающих, заставлявших дрожать стекла в единственном окне звуках
бомбардирования и снова напоминали об опасности: то ему грезились раненые и
кровь, то бомбы и осколки, которые влетают в комнату, то хорошенькая сестра
милосердия, делающая ему, умирающему, перевязку и плачущая над ним, то мать
его, провожающая его в уездном городе и горячо, со слезами, молящаяся перед
чудотворной иконой, – и снова сон кажется ему невозможен. Но вдруг мысль о
Боге всемогущем, добром, который все может сделать и услышит всякую молитву,
ясно пришла ему в голову. Он стал на колени, перекрестился и сложил руки так,
как его в детстве еще учили молиться. Этот жест вдруг перенес его к давно
забытому отрадному чувству.
«Ежели нужно умереть, нужно, чтоб меня не было, сделай это,
Господи, – думал он, – поскорее сделай это; но ежели нужна храбрость,
нужна твердость, которых у меня нет, – дай мне их, но избави от стыда и
позора, которых я не могу переносить, но научи, что мне делать, чтобы исполнить
твою волю».
Детская, запуганная, ограниченная душа вдруг возмужала,
просветлела и увидала новые, обширные, светлые горизонты. Много еще передумал и
перечувствовал он в то короткое время, пока продолжалось это чувство, но заснул
скоро покойно и беспечно, под звуки продолжавшегося гула бомбардирования и
дрожания стекол.
Господи великий! только ты один слышал и знаешь те простые,
но жаркие и отчаянные мольбы неведения, смутного раскаяния и страдания, которые
восходили к тебе из этого страшного места смерти, – от генерала, за
секунду перед этим думавшего о завтраке и Георгии на шею, но с страхом чующего
близость твою, до измученного, голодного, вшивого солдата, повалившегося на
голом полу Николаевской батареи и просящего тебя скорее дать ему там
бессознательно предчувствуемую им награду за все незаслуженные страдания! Да,
ты не уставал слушать мольбы детей твоих, ниспосылаешь им везде ангела‑утешителя,
влагавшего в душу терпение, чувство долга и отраду надежды.
15
Старший Козельцов, встретив на улице солдата своего полка, с
ним вместе направился прямо к 5‑му бастиону.
– Под стенкой держитесь, ваше благородие! – сказал
солдат.
– А что?
– Опасно, ваше благородие; вон она аж через
несеть, – сказал солдат, прислушиваясь к звуку просвистевшего ядра,
ударившегося о сухую дорогу по той стороне улицы.
Козельцов, не слушая солдата, бодро пошел по середине улицы.
Все те же были улицы, те же, даже более частые, огни, звуки,
стоны, встречи с ранеными и те же батареи, бруствера и траншеи, какие были
весною, когда он был в Севастополе; но все это почему‑то было теперь грустнее и
вместе энергичнее, – пробоин в домах больше, огней в окнах уже совсем нету,
исключая Кущина дома (госпиталя), женщины ни одной не встречается, – на
всем лежит теперь не прежний характер привычки и беспечности, а какая‑то печать
тяжелого ожидания, усталости и напряженности.
Но вот уже последняя траншея, вот и голос солдатика П.
полка, узнавшего своего прежнего ротного командира, вот и 3‑й батальон стоит в
темноте, прижавшись у стенки, изредка на мгновение освещаемый выстрелами и
слышный сдержанным говором и побрякиванием ружей.
– Где командир полка? – спросил Козельцов.
– В блиндаже у флотских, ваше благородие! –
отвечал услужливый солдатик. – Пожалуйте, я вас провожу.
Из траншеи в траншею солдат привел Козельцова к канавке в
траншее. В канавке сидел матрос, покуривая трубочку; за ним виднелась дверь, в
щели которой просвечивал огонь.
– Можно войти?
– Сейчас доложу. – И матрос вошел в дверь. Два
голоса говорили за дверью.
– Ежели Пруссия будет продолжать держать
нейтралитет, – говорил один голос, – то Австрия тоже…
– Да что Австрия, – говорил другой, – когда
славянские земли… Ну, проси.
Козельцов никогда не был в этом блиндаже. Он поразил его
своей щеголеватостью. Пол был паркетный, ширмочки закрывали дверь. Две кровати
стояли по стенам, в углу висела большая, в золотой ризе, икона божьей матери, и
перед ней горела розовая лампадка. На одной из кроватей спал моряк, совершенно
одетый, на другой, перед столом, на котором стояло две бутылки начатого вина,
сидели разговаривавшие – новый полковой командир и адъютант. Хотя Козельцов
далеко был не трус и решительно ни в чем не был виноват ни перед
правительством, ни перед полковым командиром, он робел, и поджилки у него
затряслись при виде полковника, бывшего недавнего своего товарища: так гордо
встал этот полковник и выслушал его. Притом и адъютант, сидевший тут же, смущал
своей позой и взглядом, говорившими: «Я только приятель вашего полкового
командира. Вы не ко мне являетесь, и я от вас никакой почтительности не могу и
не хочу требовать». «Странно, – думал Козельцов, глядя на своего
командира, – только семь недель, как он принял полк, а как уж во всем его
окружающем – в его одежде, осанке, взгляде – видна власть полкового командира,
эта власть, основанная не столько на летах, на старшинстве службы, на военном
достоинстве, сколько на богатстве полкового командира. Давно ли, – думал
он, – этот самый Батрищев кучивал с нами, носил по неделям ситцевую
немаркую рубашку и едал, никого не приглашая к себе, вечные битки и вареники! А
теперь! голландская рубашка уж торчит из‑под драпового с широкими рукавами
сюртука, 10‑ти рублевая сигара в руке, на столе шестирублевый лафит, – все
это закупленное по невероятным ценам через квартирмейстера в
Симферополе, – и в глазах это выражение холодной гордости аристократа
богатства, которое говорит вам: хотя я тебе и товарищ, потому что я полковой командир
новой школы, но не забывай, что у тебя 60 рублей в треть жалованья, а у меня
десятки тысяч проходят через руки, и поверь, что я знаю, как ты готов бы
полжизни отдать за то только, чтобы быть на моем месте».
– Вы долгонько лечились, – сказал полковник
Козельцову, холодно глядя на него.
– Болен был, полковник, еще и теперь рана хорошенько не
закрылась.
– Так вы напрасно приехали, – с недоверчивым
взглядом на плотную фигуру офицера сказал полковник. – Вы можете, однако,
исполнять службу?
– Как же‑с, могу‑с.
– Ну, и очень рад‑с. Так вы примите от прапорщика
Зайцева 9‑ю роту – вашу прежнюю; сейчас же вы получите приказ.
– Слушаю‑с.
– Потрудитесь, когда вы пойдете, послать ко мне
полкового адъютанта, – заключил полковой командир, легким поклоном давая
чувствовать, что аудиенция кончена.
Выйдя из блиндажа, Козельцов несколько раз промычал что‑то и
подернул плечами, как будто ему было от чего‑то больно, неловко или досадно, и
досадно не на полкового командира (не за что), а сам собой и всем окружающим он
был как будто недоволен. Дисциплина и условие ее – субординация – только
приятно, как всякие обзаконенные отношения, когда она основана, кроме взаимного
сознания в необходимости ее, на признанном со стороны низшего превосходства в
опытности, военном достоинстве или даже просто моральном совершенстве; но зато,
как скоро дисциплина основана, как у нас часто случается, на случайности или
денежном принципе, – она всегда переходит, с одной стороны, в важничество,
с другой – в скрытую зависть и досаду и вместо полезного влияния соединения
масс в одно целое производит совершенно противуположное действие. Человек, не
чувствующий в себе силы внутренним достоинством внушить уважение, инстинктивно
боится сближения с подчиненными и старается внешними выражениями важности
отдалить от себя критику. Подчиненные, видя одну эту внешнюю, оскорбительную
для себя сторону, – уже за ней, большею частью несправедливо, не
предполагают ничего хорошего.
|


