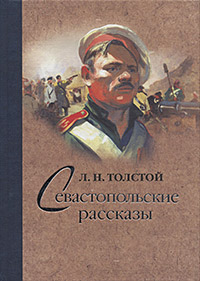
 Увеличить Увеличить |
12
– А знаешь, Праскухин убит, – сказал Пест,
провожая Калугина, который шел к дому.
– Не может быть!
– Как же, я сам его видел.
– Прощай, однако, мне надо скорее.
«Я очень доволен, – думал Калугин, возвращаясь к
дому, – в первый раз на мое дежурство счастие. Отличное дело, я – жив и
цел, представления будут отличные, и уж непременно золотая сабля. Да, впрочем,
я и стою ее».
Доложив генералу все, что нужно было, он пришел в свою
комнату, в которой, уже давно вернувшись и дожидаясь его, сидел князь Гальцин,
читая «Splendeur et miseres des courtisanes» [20], которую нашел на столе
Калугина.
С удивительным наслаждением Калугин почувствовал себя дома,
вне опасности, и, надев ночную рубашку, лежа в постели, уж рассказал Гальцину
подробности дела, передавая их весьма естественно, – с той точки зрения, с
которой подробности эти доказывали, что он, Калугин, весьма дельный и храбрый
офицер, на что, мне кажется, излишне бы было намекать, потому что это все знали
и не имели никакого права и повода сомневаться, исключая, может быть, покойника
ротмистра Праскухина, который, несмотря на то, что, бывало, считал за счастье
ходить под руку с Калугиным, вчера только по секрету рассказывал одному приятелю,
что Калугин очень хороший человек, но, между нами будь сказано, ужасно не любит
ходить на бастионы.
Только что Праскухин, идя рядом с Михайловым, разошелся с
Калугиным и, подходя к менее опасному месту, начинал уже оживать немного, как
он увидал молнию, ярко блеснувшую сзади себя, услыхал крик часового: «Маркела!»
– и слова одного из солдат, шедших сзади: «Как раз на батальон прилетит!»
Михайлов оглянулся: светлая точка бомбы, казалось,
остановилась на своем зените – в том положении, когда решительно нельзя
определить ее направления. Но это продолжалось только мгновение: бомба быстрее
и быстрее, ближе и ближе, так что уже видны были искры трубки и слышно роковое
посвистывание, опускалась прямо в середину батальона.
– Ложись! – крикнул чей‑то испуганный голос.
Михайлов упал на живот. Праскухин невольно согнулся до самой
земли и зажмурился; он слышал только, как бомба где‑то очень близко шлепнулась
на твердую землю. Прошла секунда, показавшаяся часом, – бомбу не рвало.
Праскухин испугался, не напрасно ли он струсил, – может быть, бомба упала
далеко и ему только казалось, что трубка шипит тут же. Он открыл глаза и с
самолюбивым удовольствием увидал, что Михайлов, которому он должен 12 рублей с
полтиной, гораздо ниже и около самых ног его, недвижимо, прижавшись к нему,
лежал на брюхе. Но тут же глаза его на мгновение встретились с светящейся
трубкой, в аршине от него, крутившейся бомбы.
Ужас – холодный, исключающий все другие мысли и чувства ужас
– объял все существо его; он закрыл лицо руками и упал на колена.
Прошла еще секунда – секунда, в которую целый мир чувств,
мыслей, надежд, воспоминаний промелькнул в его соображении.
«Кого убьет – меня или Михайлова? Или обоих вместе? А коли
меня, то куда? в голову, так все кончено; а ежели в ногу, то отрежут, и я попрошу,
чтобы непременно с хлороформом, – и я могу еще жив остаться. А может быть,
одного Михайлова убьет, тогда я буду рассказывать, как мы рядом шли, и его
убило и меня кровью забрызгало. Нет, ко мне ближе – меня».
Тут он вспомнил про 12 рублей, которые был должен Михайлову,
вспомнил еще про один долг в Петербурге, который давно надо было заплатить;
цыганский мотив, который он пел вечером, пришел ему в голову; Женщина, которую
он любил, явилась ему в воображении, в чепце с лиловыми лентами; человек, которым
он был оскорблен 5 лет тому назад и которому он не отплатил за оскорбленье,
вспомнился ему, хотя вместе, нераздельно с этими и тысячами других
воспоминаний, чувство настоящего – ожидания смерти и ужаса – ни на мгновение не
покидало его. «Впрочем, может быть, не лопнет», – подумал он и с отчаянной
решимостью хотел открыть глаза. Но в это мгновение, еще сквозь закрытые веки,
глаза его поразил красный огонь, с страшным треском что‑то толкнуло его в
средину груди; он побежал куда‑то, спотыкнулся на подвернувшуюся под ноги саблю
и упал на бок.
«Слава Богу! Я только контужен», – было его первою
мыслью, и он хотел руками дотронуться до груди, – но руки его казались
привязанными, и какие‑то тиски сдавливали голову. В глазах его мелькали солдаты
– и он бессознательно считал их: «Один, два, три солдата, а вот в подвернутой
шинели офицер», – думал он; потом молния блеснула в его глазах, и он
думал, из чего это выстрелили: из мортиры или из пушки? Должно быть, из пушки;
а вот еще выстрелили, а вот еще солдаты – пять, шесть, семь солдат, идут всё
мимо. Ему вдруг стало страшно, что они раздавят его; он хотел крикнуть, что он
контужен, но рот был так сух, что язык прилип к нёбу, и ужасная жажда мучила
его. Он чувствовал, как мокро было у него около груди, – это ощущение мокроты
напоминало ему о воде, и ему хотелось бы даже выпить то, чем это было мокро.
«Верно, я в кровь разбился, как упал», – подумал он, и, все более и более
начиная поддаваться страху, что солдаты, которые продолжали мелькать мимо,
раздавят его, он собрал все силы и хотел закричать: «Возьмите меня», – но
вместо этого застонал так ужасно, что ему страшно стало, слушая себя. Потом
какие‑то красные огни запрыгали у него в глазах, – и ему показалось, что
солдаты кладут на него камни; огни все прыгали реже и реже, камни, которые на
него накладывали, давили его больше и больше. Он сделал усилие, чтобы
раздвинуть камни, вытянулся и уже больше не видел, не слышал, не думал и не
чувствовал. Он был убит на месте осколком в середину груди.
|


