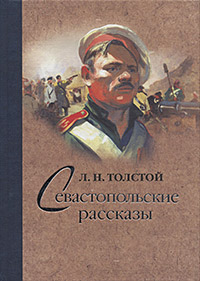
 Увеличить Увеличить |
2
Уже въезжая в улицу разваленных остатков каменных стен
татарских домов Дуванкой, поручик Козельцов снова был задержан транспортом бомб
и ядер, шедшим в Севастополь и столпившимся на дороге.
Два пехотных солдата сидели в самой пыли на камнях
разваленного забора, около дороги, и ели арбуз с хлебом.
– Далече идете, землячок? – сказал один из них,
пережевывая хлеб, солдату, который с небольшим мешком за плечами остановился
около них.
– В роту идем из губерни, – отвечал солдат, глядя
в сторону от арбуза и поправляя мешок за спиной. – Мы вот почитай что
третью неделю при сене ротном находились, а теперь, вишь, потребовали всех; да
неизвестно, в каком месте полк находится в теперешнее время. Сказывали, что на
Корабельную заступили наши в прошлой неделе. Вы не слыхали, господа?
– В городу, брат, стоит, в городу, – проговорил
другой, старый фурштатский солдат, копавший с наслаждением складным ножом в
неспелом, белёсом арбузе. – Мы вот только с полдён оттеле идем. Такая
страсть, братец ты мой, что и не ходи лучше, а здесь упади где‑нибудь, в сене,
денек‑другой пролежи – дело‑то лучше будет.
– А что так, господа?
– Рази не слышишь, нынче кругом палит, аж и места
целого нет. Что нашего брата перебил, и сказать нельзя! – И говоривший
махнул рукой и поправил шапку.
Прохожий солдат задумчиво покачал головой, почмокал языком,
потом достал из голенища трубочку, не накладывая ее, расковырял прижженный
табак, зажег кусочек трута у курившего солдата и приподнял шапочку.
– Никто, как Бог, господа! Прощенья просим! –
сказал он и, встряхнув за спиною мешок, пошел по дороге.
– Эх, обождал бы лучше! – сказал убедительно‑протяжно
ковырявший арбуз.
– Все одно, – пробормотал прохожий, пролезая между
колес столпившихся повозок, – видно, тоже харбуза купить повечерять; вишь,
что говорят люди.
3
Станция была полна народом, когда Козельцов подъехал к ней.
Первое лицо, встретившееся ему еще на крыльце, был худощавый, очень молодой
человек, смотритель, который перебранивался с следовавшими за ним двумя
офицерами.
– И не то что трое суток, и десятеро суток подождете! и
генералы ждут, батюшка! – говорил смотритель с желанием кольнуть
проезжающих, – а я вам не запрягусь же.
– Так никому не давать лошадей, коли нету!.. А зачем
дал какому‑то лакею с вещами? – кричал старший из двух офицеров, с
стаканом чаю в руках и, видимо, избегая местоимения, но давая чувствовать, что
очень легко и ты сказать смотрителю.
– Ведь вы сами рассудите, господин смотритель, –
говорил с запинками другой, молоденький офицерик, – нам не для своего
удовольствия нужно ехать. Ведь мы тоже, стало быть, нужны, коли нас требовали.
А то я, право, генералу Крамперу непременно это скажу. А то ведь это что ж… вы,
значит, не уважаете офицерского звания.
– Вы всегда испортите! – перебил его с досадой
старший. – Вы только мешаете мне; надо уметь с ними говорить. Вот он и
потерял уваженье. Лошадей сию минуту, я говорю!
– И рад бы, батюшка, да где их взять‑то?
Смотритель помолчал немного и вдруг разгорячился и,
размахивая руками, начал говорить:
– Я, батюшка, сам понимаю и все знаю; да что станете
делать! Вот дайте мне только (на лицах офицеров выразилась надежда)… дайте
только до конца месяца дожить – и меня здесь не будет. Лучше на Малахов курган
пойду, чем здесь оставаться. Ей‑богу! Пусть делают как хотят, когда такие
распоряжения: на всей станции теперь ни одной повозки крепкой нет, и клочка
сена уж третий день лошади не видали.
И смотритель скрылся в воротах.
Козельцов вместе с офицерами вошел в комнату.
– Что ж, – совершенно спокойно сказал старший
офицер младшему, хотя за секунду перед этим он казался разъяренным, – уж
три месяца едем, подождем еще. Не беда – успеем.
Дымная, грязная комната была так полна офицерами и
чемоданами, что Козельцов едва нашел место на окне, где и присел; вглядываясь в
лица и вслушиваясь в разговоры, он начал делать папироску. Направо от двери,
около кривого сального стола, на котором стояло два самовара с позеленелой кое‑где
медью и разложен был сахар в разных бумагах, сидела главная группа: молодой
безусый офицер в новом стеганом архалуке, наверное, сделанном из женского
капота, доливал чайник; человека 4 таких же молоденьких офицеров находились в
разных углах комнаты: один из них, подложив под голову какую‑то шубу, спал на
диване; другой, стоя у стола, резал жареную баранину безрукому офицеру,
сидевшему у стола. Два офицера, один в адъютантской шинели, другой в пехотной,
по тонкой, и с сумкой через плечо, сидели около лежанки; и по одному тому, как
они смотрели на других и как тот, который был с сумкой, курил сигару, видно
было, что они не фронтовые пехотные офицеры и что они довольны этим. Не то
чтобы видно было презрение в их манере, но какое‑то самодовольное спокойствие,
основанное частью на деньгах, частью на близких сношениях с генералами, –
сознание превосходства, доходящее даже до желания скрыть его. Еще молодой
губастый доктор и артиллерист с немецкой физиономией сидели почти на ногах
молодого офицера, спящего на диване, и считали деньги. Человека 4 денщиков –
одни дремали, другие возились с чемоданами и узлами около двери. Козельцов
между всеми лицами не нашел ни одного знакомого; но он с любопытством стал
вслушиваться в разговоры. Молодые офицеры, которые, как он тотчас же по одному
виду решил, только что ехали из корпуса, понравились ему, и главное, напомнили,
что брат его, тоже из корпуса, на днях должен был прибыть в одну из батарей
Севастополя. В офицере же с сумкой, которого лицо он видел где‑то, ему все
казалось противно и нагло. Он даже с мыслью: «Осадить его, ежели бы он вздумал
что‑нибудь сказать», – перешел от окна к лежанке и сел на нее. Козельцов
вообще, как истый фронтовой и хороший офицер, не только не любил, но был
возмущен против штабных, которыми он с первого взгляда признал этих двух
офицеров.
|


