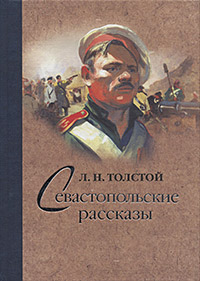
 Увеличить Увеличить |
6
– Кто борщу требовал? – провозгласила довольно
грязная хозяйка, толстая женщина лет 40, с миской щей входя в комнату.
Разговор тотчас же замолк, и все бывшие в комнате устремили
глаза на харчевницу. Офицер, ехавший из П., даже подмигнул на нее молодому
офицеру.
– Ах, это Козельцов спрашивал, – сказал молодой
офицер, – надо его разбудить. Вставай обедать, – сказал он, подходя к
спящему на диване и толкая его за плечо.
Молодой мальчик, лет 17, с веселыми черными глазками и
румянцем во всю щеку, вскочил энергически с дивана и, протирая глаза,
остановился посередине комнаты.
– Ах, извините, пожалуйста, – сказал он
серебристым звучным голосом доктору, которого толкнул, вставая.
Поручик Козельцов тотчас же узнал брата и подошел к нему.
– Не узнаешь? – сказал он, улыбаясь.
– А‑а‑а! – закричал меньшой брат. – Вот
удивительно! – и стал целовать брата.
Они поцеловались 3 раза, но на третьем разе запнулись, как
будто обоим пришла мысль: зачем же непременно нужно три раза?
– Ну, как я рад! – сказал старший, вглядываясь в
брата. – Пойдем на крыльцо – поговорим.
– Пойдем, пойдем. Я не хочу борщу… ешь ты,
Федерсон, – сказал он товарищу.
– Да ведь ты хотел есть.
– Не хочу ничего.
Когда они вышли на крыльцо, меньшой все спрашивал у брата:
«Ну, что ты, как, расскажи», – и все говорил, как он рад его видеть, но
сам ничего не рассказывал.
Когда прошло минут 5, во время которых они успели помолчать
немного, старший брат спросил, отчего меньшой вышел не в гвардию, как этого все
наши ожидали.
– Ах, да! – отвечал меньшой, краснея при одном
воспоминании. – Это ужасно меня убило, и я никак не ожидал, что это
случится. Можешь себе представить, перед самым выпуском мы пошли втроем
курить, – знаешь эту комнатку, что за швейцарской, ведь и при вас, верно,
так же было, – только, можешь вообразить, этот каналья сторож увидал и
побежал сказать дежурному офицеру (и ведь мы несколько раз давали на водку
сторожу), он и подкрался; только как мы его увидали, те побросали папироски и
драло в боковую дверь – а мне уж некуда, он тут мне стал неприятности говорить,
разумеется, я не спустил, ну, он сказал инспектору, и пошло. Вот за это‑то
поставили неполные баллы в поведенье, хотя везде были отличные, только из
механики двенадцать, ну и пошло. Выпустили в армию. Потом обещали меня
перевести в гвардию, да уж я не хотел и просился на войну.
– Вот как!
– Право, я тебе без шуток говорю, все мне так гадко
стало, что я желал поскорей в Севастополь. Да, впрочем, ведь ежели здесь
счастливо пойдет, так можно еще скорее выиграть, чем в гвардии: там в 10 лет в
полковники, а здесь Тотлебен так в 2 года из подполковников в генералы. Ну, а
убьют, – так что ж делать!
– Вот ты какой! – сказал брат, улыбаясь.
– А главное, знаешь ли что, брат, – сказал
меньшой, улыбаясь и краснея, как будто сбирался сказать что‑нибудь очень
стыдное, – все это пустяки; главное, я затем просился, что все‑таки как‑то
совестно жить в Петербурге, когда тут умирают за отечество. Да и с тобой мне
хотелось быть, – прибавил он еще застенчивее.
– Какой ты смешной! – сказал старший брат,
доставая папиросницу и не глядя на него. – Жалко только, что мы не вместе
будем.
– А что, скажи по правде, страшно на бастионах? –
спросил вдруг младший.
– Сначала страшно, потом привыкаешь – ничего. Сам
увидишь.
– А вот еще что скажи: как ты думаешь, возьмут
Севастополь? Я думаю, что ни за что не возьмут.
– Бог знает.
– Одно только досадно, – можешь вообразить, какое
несчастие: у нас ведь дорогой целый узел украли, а у меня в нем кивер был, так
что я теперь в ужасном положении и не знаю, как я буду являться. Ты знаешь,
ведь у нас новые кивера теперь, да и вообще сколько перемен; все к лучшему. Я
тебе все это могу рассказать… Я везде бывал в Москве.
Козельцов‑второй, Владимир, был очень похож на брата
Михайлу, но похож так, как похож распускающийся розан на отцветший шиповник.
Волоса у него были те же русые, но густые и вьющиеся на висках; на белом нежном
затылке у него была русая косичка – признак счастия, как говорят нянюшки. По
нежному белому цвету кожи лица не стоял, а вспыхивал, выдавая все движения
души, полнокровный молодой румянец. Те же глаза, как и у брата, были у него
открытое и светлее, что особенно казалось оттого, что они часто покрывались
легкой влагой. Русый пушок пробивал по щекам и над красными губами, весьма
часто складывавшимися в застенчивую улыбку и открывавшими белые блестящие зубы.
Стройный, широкоплечий, в расстегнутой шинели, из‑под которой виднелась красная
рубашка с косым воротом, с папироской в руках, облокотившись на перила крыльца,
с наивной радостью в лице и жесте, как он стоял перед братом, – это был
такой приятно‑хорошенький мальчик, что все бы так и смотрели на него. Он
чрезвычайно рад был брату, с уважением и гордостью смотрел на него, воображая
его героем; но в некоторых отношениях, именно в рассуждении вообще светского
образования, которого, по правде сказать, он и сам не имел, умения говорить по‑французски,
быть в обществе важных людей, танцевать и т. д., – он немножко стыдился за
него, смотрел свысока и даже хотел образовать его. Все впечатления его еще были
из Петербурга, из дома одной барыни, любившей хорошеньких и бравшей его к себе
на праздники, и из дома сенатора в Москве, где он раз танцевал на большом бале.
|


