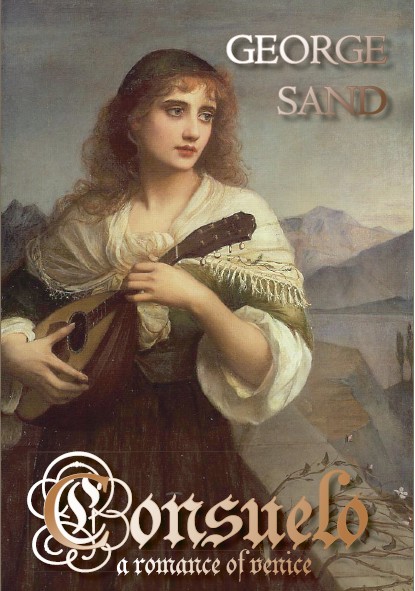
 Увеличить Увеличить |
Глава 94
После грязного намека на отношения Консуэло и толстого
каноника, который несколько минут назад Корилла высказала, ей показалось
теперь, что перед нею — голова Медузы. Но она успокоилась, вспомнив, что
говорила на венецианском наречии, и поздоровалась с каноником на немецком языке
с той смесью смущения и наглости, какими отличаются взгляд и лицо женщины
легкого поведения. Каноник, обычно такой вежливый и любезный, тут, однако, не
только не встал, но даже не ответил на ее поклон. Корилла, расспрашивавшая о
нем в Вене, слышала от всех, что он чрезвычайно хорошо воспитан, большой
любитель музыки, человек, не способный педантично читать наставления женщине,
особенно певице, и все собиралась повидаться с ним и пустить в ход свои чары,
чтобы помешать ему дурно говорить о ней. Но если в подобных делах она обладала
сметливостью, которой не хватало Консуэло, то вместе с тем ей присущи были и
беспечность и безалаберность, граничащие с распущенностью, ленью и даже, хотя
это может показаться здесь неуместным, нечистоплотностью. У грубых натур все
эти слабости цепляются одна за другую. Расхлябанность души и тела парализует
склонность к интригам. У Кориллы, по природе своей способной на вероломство,
редко хватало энергии довести интригу до конца. Она откладывала со дня на день
посещение каноника, и теперь, когда он оказался таким холодным и строгим, видимо
смутилась.
И вот, стремясь смелой выходкой поправить дело, она
обратилась к Консуэло, продолжавшей держать на руках Анджелу:
— Послушай, почему ты не дашь мне поцеловать мою дочку
и положить ее у ног господина каноника, чтобы…
— Госпожа Корилла, — прервал ее каноник тем сухим,
насмешливо-холодным тоном, каким он обыкновенно прежде говорил «госпожа
Бригита», — будьте добры, оставьте этого ребенка в покое. — И с
большой изысканностью, хотя и немного медленно, он продолжал по-итальянски, не
снимая шапочки, надвинутой на уши: — Вот четверть часа, как я вас слушаю, и
хотя не очень знаком с вашим провинциальным наречием, все же понял достаточно,
и скажу вам, что вы самая наглая негодяйка, какую я встречал в жизни. Но
все-таки я думаю, что вы скорее глупы, чем злы, и более подлы, чем опасны. Вы
ничего не смыслите в прекрасном, и было бы потерей времени заставить вас понять
его. Одно могу вам сказать: говоря с этой девушкой, этой девственницей, этой
святой, как вы сейчас в насмешку назвали ее, вы оскверняете ее! Не говорите же
с ней! Что касается ребенка, рожденного вами, вы, прикасаясь к нему, бесчестите
его. Не прикасайтесь же! Ребенок — священное существо. Консуэло это сказала, и
я понял ее. Только по ходатайству и благодаря уговорам этой самой Консуэло я
дерзнул взять на свое попечение вашу дочь, не испугавшись того, что в один
прекрасный день ее скверные инстинкты, которые она рискует унаследовать от вас,
заставят меня раскаяться в этом. Мы сказали себе, что милость божья дает
возможность всякому существу знать и творить добро, и мы обещали себе преподать
ей добро и помочь ей творить его легко и радостно. Останься ребенок у вас, все
было бы совсем иначе. Будьте же добры с сегодняшнего дня не считать Анджелу
своей дочерью. Вы покинули ее, уступили, отдали, — она больше вам не
принадлежит. Вы передали известную сумму денег — как плату за ее воспитание…
Он сделал знак кормилице, и та, предупрежденная им за
несколько минут до того, вынула из шкафа перевязанный и запечатанный мешочек,
тот самый, который прислала Корилла канонику вместе с дочерью и который никогда
не был открыт. Каноник взял его и, бросив к ногам Кориллы, прибавил:
— Нам с ним нечего делать, он нам совсем не нужен. А
теперь я прошу вас оставить мой дом и никогда, ни под каким предлогом здесь не
появляться. С этим условием, а также при обещании, что вы никогда не позволите
себе открыть рта относительно обстоятельств, заставивших нас войти в сношения с
вами, мы, со своей стороны, обещаем вам абсолютное молчание по поводу всего,
что вас касается. В противном случае, предупреждаю вас, у меня больше средств,
чем вы думаете, довести всю правду до сведения ее императорского величества, и
тогда очень возможно, что ваши лавровые венки и восторженные овации ваших
театральных поклонников сменятся на несколько лет монастырем для кающихся
грешниц.
Сказав это, каноник встал, сделал знак кормилице взять на
руки ребенка, а Консуэло с Иосифом — удалиться в глубь комнаты. Затем он указал
Корилле пальцем на дверь, и та в ужасе, бледная и дрожащая, вышла словно
помешанная, не зная, куда идет, и не понимая, что вокруг нее происходит.
Каноник, изгоняя ее чуть ли не с проклятием, был охвачен негодованием честного
человека, и это придавало его словам необычайную силу. Консуэло и Иосиф ни разу
не видели его таким. Привычка считать себя авторитетом, никогда не покидающая
священника, и манера держаться по-королевски повелительно, в известной мере
унаследованная им и выдававшая в нем в эту минуту побочного сына Августа II,
сообщали канонику, — о чем он, быть может, даже и не подозревал, —
какое-то непередаваемое величие. Корилла, не привыкшая к тому, чтобы мужчина с
подобным спокойствием говорил ей суровую правду, почувствовала такой страх,
какого не внушал ей еще ни один взбешенный любовник своими оскорблениями,
полными мести и презрения. Суеверная итальянка, она и в самом деле испугалась
этого духовного лица и его анафемы; как безумная пустилась она бежать через
сад, а каноник, утомленный усилием, столь несвойственным его веселому и доброму
нраву, опустился на стул, бледный, едва дыша.
Бросившись ему на помощь, Консуэло невольно продолжала
следить взглядом за злосчастной Кориллой, удалявшейся поспешной, неверной
походкой. Она видела, как Корилла в конце аллеи споткнулась и упала на траву,
то ли оступившись, то ли оттого, что не имела уже сил держаться на ногах.
Добрая девушка считала, что актриса получила более суровый урок, чем у нее
самой хватило бы сил ей дать; оставив каноника на попечении Иосифа, Консуэло
побежала к своей сопернице, бившейся в жестоком нервном припадке. Не в силах успокоить
Кориллу и не смея привести ее обратно в приорию, она старалась удержать ее,
чтобы та не каталась по земле и не обдирала себе руки о песок. Несколько минут
Корилла была как сумасшедшая. Но когда она увидела, кто оказывает ей помощь и
старается ее утешить, она вдруг успокоилась и только мертвенно побледнела. Сжав
губы, устремив в землю потухший взор, она хранила упорное молчание. Однако она
позволила проводить себя до экипажа, ждавшего ее у ворот, и, не проронив ни
единого слова, села в него, поддерживаемая своей соперницей.
— Вы очень плохо себя чувствуете? — спросила
Консуэло, испуганная ее ужасным видом. — Дайте я провожу вас часть пути,
потом вернусь обратно пешком.
Вместо всякого ответа Корилла грубо оттолкнула девушку,
потом секунду как-то загадочно смотрела на нее и, вдруг зарыдав, закрыла лицо
рукой, а другой махнула кучеру, чтобы он ехал; сама же, не желая видеть своего
великодушного врага, спустила штору.
На следующий день, к началу последней репетиции «Антигона»,
Консуэло была на своем посту и ожидала Кориллу. Примадонна приказала передать
через своего слугу, что опоздает на полчаса. Кафариэлло послал ее ко всем
чертям и, объявив, что не намерен зависеть от такой дуры и не станет ее ждать,
притворился, будто собирается уйти. Г-жа Тези, бледная и больная, пожелала
присутствовать на репетиции, чтобы позабавиться над Кориллой. Она велела
принести себе диван и улеглась на него за первой кулисой, изображавшей
подобранный занавес, что на театральном жаргоне зовется «плащом арлекина». Тези
стала успокаивать своего друга и сама решила упорно ждать Кориллу, уверенная,
что та медлит, желая избежать ее критики. Наконец появилась Корилла, более
бледная и изможденная, чем даже г-жа Тези, и та, увидев ее в таком состоянии,
порозовела и приободрилась. Вместо того чтобы, как обычно, сбросить с себя
накидку и шляпу с величественной развязностью, Корилла в изнеможении опустилась
на деревянный позолоченный трон, забытый в глубине сцены, и угасающим голосом
обратилась к Гольцбауэру:
— Господин директор, заявляю вам, что я страшно больна,
совсем без голоса и провела ужасную ночь…
— С кем? — томно спросила Тези у Кафариэлло.
— И поэтому, — продолжала Корилла, — я
совершенно не в состоянии репетировать сегодня и петь завтра, разве только
снова возьму роль Исмены, а роль Береники вы дадите другой.
— Да думаете ли вы о том, что говорите,
сударыня? — воскликнул Гольцбауэр, словно громом пораженный. — Можно
ли накануне спектакля, назначенного самим двором на определенный час,
представлять какие-либо отговорки? Это немыслимо, и я ни в коем случае не могу
на это согласиться.
— А все-таки вам придется с этим согласиться, —
возразила Корилла уже своим обычным, далеко не кротким голосом. — Я
приглашена на вторые роли, и в моем контракте нет пункта, обязывающего меня
исполнять первые. Только любезность заставила меня заменить госпожу Тези, чтобы
не прерывать развлечений двора. Я слишком плохо себя чувствую и не могу
сдержать свое обещание, а насильно петь вы меня не заставите.
— Милая моя, тебя заставят петь приказом, —
вмешался Кафариэлло, — и ты споешь плохо, как мы и предвидели. Это
небольшое несчастье прибавится ко всем тем, которые тебе привелось по своему
желанию переносить в жизни. Но раскаиваться поздно. Надо было думать раньше.
Слишком ты понадеялась на свои силы. Ты провалишься; но нам-то всем какое до
этого дело! Я спою так, что забудут о самом существовании роли Береники.
Порпорина также своей маленькой ролью Исмены вознаградит публику, и все будут
довольны, за исключением тебя. Это послужит тебе уроком, которым ты, не знаю
уж, воспользуешься или не воспользуешься в следующий раз.
— Вы очень ошибаетесь насчет причины моего
отказа, — уверенным тоном ответила Корилла. — Не будь я больна,
вероятно, я спела бы свою партию не хуже кого угодно. Но так как я не в
состоянии петь, то споет ее некто, способный петь гораздо лучше, чем кто-либо
из выступавших до сих пор в Вене, и это произойдет не позже завтрашнего дня.
Таким образом, спектакль состоится в свое время, а я с удовольствием снова буду
исполнять партию Исмены: она меня не утомляет.
— Вы, стало быть, рассчитываете, — сказал
удивленный Гольцбауэр, что госпожа Тези настолько поправится к завтрашнему дню,
что будет в состоянии спеть свою партию?
— Я прекрасно знаю, что госпожа Тези еще долго не
сможет петь, — проговорила Корилла так громко, что с трона, где она
восседала, ее могла слышать Тези, возлежавшая на диване в десяти шагах от
нее. — Смотрите, как она изменилась: на нее просто страшно смотреть! Но я
сказала, что у вас есть великолепная Береника, несравненная, превосходящая всех
нас. Вот она! — прибавила Корилла, поднимаясь, и, взяв за руку Консуэло,
вывела ее на самую середину встревоженной взволнованной группы, образовавшейся
вокруг певицы.
— Я? — воскликнула Консуэло, которой казалось, что
она видит сон.
— Ты! — закричала Корилла, судорожным движением
толкая ее к трону.
— Вот ты и царица, Порпорина! Вот ты и на первом месте!
И я возвожу тебя на него. Я! Это был мой долг по отношению к тебе. Помни это!
Гольцбауэр, в полном отчаянии, рискуя не выполнить своей
обязанности и, быть может, даже лишиться места директора, не мог отвергнуть эту
неожиданную помощь. Он прекрасно видел по тому, как Консуэло провела роль
Исмены, что она будет на высоте и в партии Береники. Несмотря на отвращение к
Консуэло и к Порпоре, в данную минуту он мог бояться только одного: что юная
певица не согласится взять на себя эту роль.
И она действительно очень настойчиво от нее отказывалась.
Дружески пожимая руку Кориллы, она шепотом умоляла актрису не приносить ей
жертвы, так мало нужной ее самолюбию, но являвшейся, с точки зрения ее
соперницы, самым ужасным из всех искуплений, самым страшным самоунижением, к
какому та могла себя принудить. Корилла осталась непреклонной в своем решении.
Госпожа Тези, испуганная грозящим ей серьезным
соперничеством, очень хотела попробовать голос и снова взяться за свою роль,
хотя бы даже с риском для жизни, ибо она была не на шутку больна, но не
решилась на это: тогда на императорской сцене не разрешались капризы, с
которыми теперь так терпеливо мирится добродушный владыка нашего времени —
публика. Двор ожидал увидеть нечто новое в роли Береники: ему об этом было
доложено, и императрица на это рассчитывала.
— Ну, соглашайся! — сказал Кафариэлло
Порпорине. — Это первый умный поступок Кориллы за всю ее жизнь;
воспользуемся же им!
— Но я роли не знаю, я не проходила ее, — говорила
Консуэло, — не смогу же я выучить ее к завтрашнему дню.
— Ты слышала ее, следовательно, знаешь и завтра
споешь, — проговорил, наконец, громовым голосом Порпора. — Ну, нечего
гримасничать, и пусть эти споры прекратятся! Больше часа мы потеряли на
болтовню. Господин дирижер, прикажите скрипкам начинать. А ты, Береника, марш
на сцену! Не нужно нот, долой ноты! Кто был на трех репетициях, должен знать
все роли на память. Говорю тебе: роль ты знаешь.
No, tutto, о Berenice, Tu non apri il tuo cor… пела Корилла,
снова став Исменой.
«А теперь, — подумала эта женщина, судившая о тщеславии
Консуэло по своему собственному, — она и думать забудет о моих делишках».
Консуэло, чья феноменальная память и необычайная легкость
усвоения были прекрасно известны Порпоре, действительно спела свою партию без
единой запинки в мелодии или в тексте. Г-жа Тези была так поражена ее игрой и
пением, что почувствовала себя гораздо хуже и после первого же действия
приказала отвезти себя домой.
На следующий день Консуэло нужно было к пяти часам
приготовить себе костюм, пройти наиболее серьезные места своей роли и вообще
внимательно повторить всю партию. Успех она имела такой, что императрица,
выходя из театра, сказала:
— Что за чудесная девушка! Надо непременно выдать ее
замуж; я позабочусь об этом.
Со следующего же дня начали репетировать «Зенобию» на текст
Метастазио и музыку Предиери. Корилла опять настояла на том, чтобы Консуэло
исполняла главную роль. Вторую роль на этот раз взяла на себя г-жа Гольцбауэр,
и так как она была музыкальнее Кориллы, то оперу разучили лучше, чем первую.
Метастазио был в восторге, видя, что его лира, заброшенная и забытая во время
войны, снова входит в милость при дворе и производит фурор в Вене. Он почти перестал
думать о своих хворях и, побуждаемый благосклонностью Марии-Терезии и своим
долгом писателя творить новые лирические драмы, готовился, изучая греческие
трагедии и латинских классиков, к созданию одного из тех шедевров, которые
итальянцы в Вене, а немцы в Италии бесцеремонно ставили выше трагедий Корнеля,
Расина, Шекспира, Кальдерона, — словом, говоря откровенно и без ложного
стыда, — превыше всего.
Но мы не станем больше злоупотреблять в нашем рассказе — и
без того достаточно длинном и перегруженном подробностями — давно уже
истощившимся, быть может, терпением читателя и делиться с ним своими мыслями
относительно гениальности Метастазио. Читателю это мало интересно. Мы только
сообщим ему, что Консуэло втихомолку говорила по этому поводу Иосифу:
— Милый мой Беппо, ты не можешь себе представить, до
чего мне трудно играть эти роли, считающиеся такими возвышенными, такими
трогательными! Правда, рифмы хороши и петь их легко, но что касается
персонажей, произносящих все это, то не знаешь, где взять, уж не говорю,
подъема, а просто сил удержаться от смеха, изображая их. До чего же нелепо
получается, когда, следуя традиции, мы пытаемся передать античный мир
средствами современности: выводятся на сцену интриги, страсти, понятия о
нравственности, которые, пожалуй, были бы очень уместны в мемуарах маркграфини
Байрейтской, барона Тренка, принцессы Кульмбахской, но в устах Радамиста,
Береники или Арсинои являются просто нелепой бессмыслицей. Когда, поправляясь
после болезни, я жила в замке Великанов, граф Альберт часто читал мне вслух,
чтобы усыпить меня, но я не спала и слушала затаив дыхание. Читал он греческие
трагедии Софокла, Эсхила и Эврипида, читал их по-испански, медленно, но ясно,
без запинки, несмотря на то, что тут же переводил их с греческого текста. Он так
хорошо знает древние и новые языки, что казалось, будто он читает чудесно
сделанный перевод. По его словам, он стремился переводить как можно ближе к
подлиннику, чтобы в его добросовестной передаче я могла постичь гениальные
произведения греков во всей их простоте. Боже! Какое величие! Какие картины!
Сколько поэзии! Какое чувство меры! Какого исполинского размаха люди! Какие
характеры, целомудренные и могучие! Какие сильные ситуации! Какие глубокие,
истинные горести! Какие душераздирающие и страшные картины проходили перед
моими глазами! Еще слабая, возбужденная сильными переживаниями, вызвавшими мою
болезнь, я была так взволнована его чтением, что воображала себя то Антигоной,
то Клитемнестрой, то Медеей, то Электрой, воображала, что переживаю эти кровавые
мстительные драмы не на сцене, при свете рампы, а в ужасающем одиночестве, у
входа в зияющие пещеры или при слабом свете жертвенников, среди колоннад
античных храмов, где оплакивали мертвых, составляя заговоры против живых. Я
слышала жалобные хоры троянок и пленниц Дардании. Эвмениды плясали вокруг меня…
что за странный ритм! Какие адские песнопения! Воспоминание об этих плясках еще
и теперь вызывает у меня дрожь и наслаждение. Никогда, осуществляя свои мечты,
я не буду переживать на сцене тех волнений, не почувствую в себе той мощи,
какие бушевали тогда в моем сердце и в моем сознании. Тогда впервые
почувствовала я себя трагической актрисой и в голове моей сложились образы,
которых не дал мне ни один художник. Тогда я поняла, что такое драма,
трагические эффекты, поэзия театра. В то время как Альберт читал, я мысленно
импровизировала мелодии и воображала, что произношу все мною слышанное под
аккомпанемент. Я несколько раз ловила себя на том, что принимала позы и
выражение лица героинь, чьи слова произносил Альберт, и часто, бывало, он
останавливался в испуге, думая, что видит перед собой Андромаху или Ариадну. О,
поверь, я большему научилась и больше постигла за месяц этого чтения, чем
постигну за всю свою жизнь, вызубривая драмы господина Метастазио. И если бы
музыка, написанная композиторами, не была преисполнена чувства правды, которое
отсутствует в действии, мне кажется, я изнемогла бы от отвращения, изображая
великую герцогиню Зенобию, беседующую с ландграфиней Аглаей, и слушая, как
фельдмаршал Радамист ссорится с венгерским корнетом Зопиром. О, как все это
фальшиво, чудовищно фальшиво, милый мой Беппо! Фальшиво, как наши костюмы,
фальшиво, как белокурый парик Кафариэлло в роли Тиридата, фальшиво, как пеньюар
а ля Помпадур на госпоже Гольцбауэр в роли армянской пастушки, как облаченные в
розовое трико икры царевича Деметрия, как декорации, которые мы видим вблизи и
которые похожи на пейзажи Азии не больше, чем аббат Метастазио на старца
Гомера.
— Теперь я понимаю, — отвечал Гайдн, — почему
сочинение ораторий навевает на меня больше вдохновения и надежды на успех, чем
создание оперы, хотя я и чувствую потребность писать для театра, если вообще
решусь когда-нибудь на это. Мне кажется, что композитор может развернуться во
всем блеске своего таланта и увлечь воображение слушателей в высшие сферы
музыки только в симфонии, где ему не мешают дешевые и обманчивые эффекты сцены,
где душа говорит с душой и музыкальные образы воспринимаются не зрительно, а
слухом.
Беседуя так в ожидании, пока все соберутся на репетицию,
Иосиф и Консуэло ходили рядышком вдоль большой декорации заднего плана,
изображавшей в тот вечер реку Араке; на самом деле то был огромный кусок
полотна синего цвета, натянутый между двумя другими большими полотнами,
размалеванными желтыми пятнами и представлявшими собой якобы Кавказские горы.
Известно, что эти декорации заднего плана, приготовленные для спектакля,
помещаются друг за другом таким образом, чтобы по мере надобности их можно было
поднять с помощью блока. В проходах, отделяющих их одну от другой, во время
представления снуют актеры, дремлют или обмениваются понюшками табаку статисты,
сидя или лежа в пыли, под медленно стекающими из плохо заправленных кенкеток
каплями деревянного масла. Днем по этим темным, узким проходам прогуливаются
актеры, повторяя роли или разговаривая друг с другом о своих делах. Подчас они
подслушивают чужие секреты, перехватывают сложные интриги, пользуясь тем, что
говорящие не видят их из-за какого-нибудь морского залива или городской
площади. По счастью, Метастазио не стоял на другом берегу Аракса в то время,
когда неопытная Консуэло изливала Гайдну свое негодование артистки.
Репетиция началась. Это была вторая репетиция «Зенобии», и
она шла так хорошо, что оркестранты даже аплодировали, ударяя, как обычно,
смычками по своим скрипкам. Музыка Предиери была очаровательна, и Порпора
дирижировал с гораздо большим подъемом, чем оперой Гассе. Роль Тиридата была
одной из коронных ролей Кафариэлло, и он не находил ничего предосудительного в
том, что, нарядив его в одежду сурового парфянского воина, его заставили
ворковать, как Селадон, и говорить, как Клитандр. Консуэло хотя и чувствовала,
что ее роль фальшива и напыщенна для античной героини, но по крайней мере самый
характер изображаемого ею персонажа был ей по душе. Она даже находила в
переживаниях своей героини сходство с душевным состоянием, которое испытала
сама, когда очутилась между Альбертом и Андзолето. И, позабыв о необходимости
передавать то, что мы называем теперь «местным колоритом», Консуэло жила только
общечеловеческими чувствами и превзошла самое себя в арии, столь созвучной ее
личным переживаниям:
Voi leggete in ogni core;
Voi sapete, о giusti Dei,
Se son puri i vod miei,
Se innocente е la pietanote 3
В это мгновение ее охватил настоящий душевный трепет, и она
сознавала, что триумф ею заслужен. Она уже не нуждалась в поощрении Кафариэлло,
а певец, над которым на этот раз не тяготело присутствие Тези, искренне
восхищался Консуэло; теперь она была уверена в себе, уверена, что произвела
неотразимое впечатление на публику своим исполнением и что способна произвести
такое впечатление при любых обстоятельствах и при любых слушателях. Она
совершенно примирилась со своей ролью, с оперой, с товарищами, с самой собой —
одним словом, примирилась с театром. И, несмотря на то, что за час до этого
проклинала свое положение, она почувствовала такое глубокое, такое внезапное и
могучее вдохновение, что только артист в состоянии понять, сколько веков труда,
разочарований и страданий может оно искупить в один миг.
|


