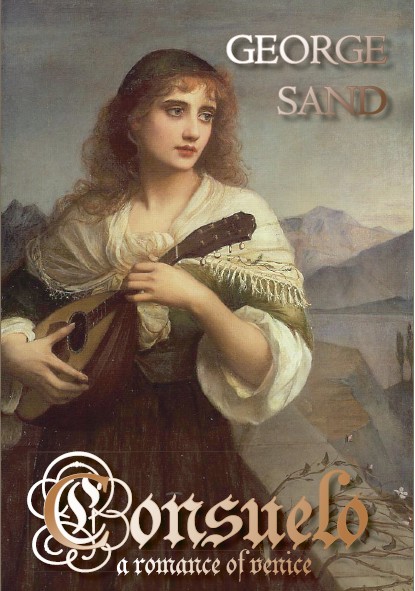
 Увеличить Увеличить |
Глава 59
Консуэло была глубоко растрогана этим изъявлением чувств,
которое оправдало ее в собственных глазах и успокоило ее совесть. До этой
минуты она часто со страхом думала о том, что слишком неосторожно отдается
своим великодушным порывам. Теперь она получила одобрение и награду. Ее
радостные слезы смешались со слезами старика, и долго оба были так взволнованы,
что не могли продолжать разговор.
Однако Консуэло все еще не понимала сделанного ей
предложения, а граф, считая, что он достаточно ясно высказался, видел в ее
молчании и слезах доказательство согласия и благодарности.
— Я иду за сыном, — проговорил наконец
старик. — Пусть у ваших ног узнает он о своем беспредельном счастье и
присоединит свои благословения к моим.
— Подождите, господин граф! — воскликнула
Консуэло, ошеломленная такой поспешностью. — Я не совсем понимаю, чего вы
от меня требуете. Вы одобряете привязанность графа Альберта ко мне и
преданность, выказанную ему мною. Вы удостаиваете меня своего доверия, зная,
что я не злоупотребляю им. Но как я могу обещать вам посвятить всю жизнь такой
странной дружбе? Я понимаю, что вы рассчитываете на время и на мою
рассудительность, чтобы поддержать душевное спокойствие вашего благородного
сына и охладить его пылкое чувство ко мне, но я не уверена, долго ли я сохраню
эту власть над ним; притом, если бы даже подобная близость и не была опасна для
такого восторженного человека, как граф Альберт, то я не вольна посвятить свою
жизнь этой славной задаче. Я не принадлежу себе.
— О небо! Что вы говорите, Консуэло? Так, значит, вы не
поняли меня?
Или вы меня обманули, сказав, что свободны, что у вас нет
никаких сердечных привязанностей, никаких обязательств, нет семьи?
— Но, господин граф, — возразила Консуэло
недоумевая. — У меня есть цель жизни, призвание, профессия. Я принадлежу
искусству, которому посвятила себя с самого детства.
— Великий боже, что вы говорите! Вы хотите вернуться на
сцену?
— Не знаю еще. Я не солгала вам, сказав, что меня
больше не тянет туда. На этом бурном пути я испытала пока только ужасные
мучения, но в то же время я чувствую, что с моей стороны было бы слишком смело
дать обещание навсегда отказаться от этого поприща. Такова была моя судьба, и,
видно, нельзя избежать будущего, которое ты однажды себе наметил. Но, вернусь
ли я на подмостки, буду ли выступать в концертах или давать уроки — все равно я
остаюсь и должна оставаться певицей. Да и на что иное я годна? Где еще я могу
сохранить независимость? Чем займу свой ум, привыкший к труду и жаждущий этих
ощущений?
— О Консуэло, Консуэло! — с горечью воскликнул
граф Христиан. — Все, что вы говорите, верно. Но я думал, что вы любите
моего сына, а теперь вижу, что вы его не любите.
— А если бы я полюбила его со страстью, которая
заставила бы меня забыть самое себя, что сказали бы вы на это, граф? —
воскликнула Консуэло, теряя терпение. — Значит, вы считаете, что никакая
женщина не может влюбиться в графа Альберта, если просите меня остаться при нем
навсегда?
— Что вы, дорогая Консуэло! Или я недостаточно ясно
высказался, или вы принимаете меня за безумного. Разве я не просил вашей руки и
сердца для моего сына? Разве я не поверг к вашим стопам этот законный и
бесспорно почетный союз? Если бы вы любили Альберта, то в счастливой жизни с
ним, конечно, нашли бы вознаграждение за потерю вашей славы и ваших триумфов.
Но вы не любите его, раз считаете невозможным отказаться ради него от того, что
называете своей судьбой!
Это объяснение, независимо от воли добродушного Христиана,
несколько запоздало. Не без ужаса и смертельного отвращения жертвовал старый
аристократ ради счастья сына всеми своими взглядами на жизнь, всеми убеждениями
своей касты. И когда после долгой и мучительной борьбы с Альбертом и самим
собой жертва, наконец, была принесена, — окончательное утверждение этого
страшного акта не могло перейти без усилия из его сердца на уста.
Консуэло почувствовала или угадала это, так как в ту минуту,
когда Христиану показалось, что он не в состоянии добиться ее согласия на этот
брак, лицо старика озарилось невольной радостью, к которой примешивалось
какое-то странное смятение.
Консуэло мгновенно поняла свое положение. Гордость, быть
может несколько эгоистичная, возбудила в ней неприязнь к предлагаемому браку.
— Так вы хотите, чтобы я стала женой графа
Альберта? — сказала она, еще ошеломленная таким предложением. — И вы
согласились бы назвать меня своей дочерью, согласились бы, чтобы я носила ваше
имя, согласились бы представить меня вашим родственникам и друзьям?.. Ах, граф,
как вы любите своего сына и как ваш сын должен любить вас!
— Если вы, Консуэло, видите в этом такое необычное
великодушие, значит, вашему сердцу оно недоступно или сам предмет кажется вам
недостойным его.
— Граф, — заговорила Консуэло после минутного
молчания, закрыв лицо руками, — я точно во сне. Гордость невольно
возмущается во мне при мысли о тех унижениях, которыми будет полна моя жизнь,
если я осмелюсь принять жертву, приносимую вашей отеческой любовью.
— Но кто посмел бы унизить вас, Консуэло, раз отец и
сын укрыли бы вас под защитой брака и семьи?
— А тетушка, граф? Ведь она здесь занимает место родной
матери, разве она могла бы смотреть на это без краски негодования?
— Она сама присоединится к нашим мольбам, если вы
дадите слово уступить. Не требуйте от человеческой натуры того, что превышает
ее силы: и возлюбленный и отец могут вынести унижение, горе отказа, — моя
сестра не справится с этим. Но, уверившись в успехе, мы приведем ее в ваши объятия,
дочь моя.
— Граф, — обратилась к старику трепещущая
Консуэло, — стало быть, граф Альберт говорил вам, что я люблю его?
— Нет, — ответил граф, вдруг вспомнив
что-то, — Альберт говорил мне, что препятствие именно в вашем сердце. Он
сто раз повторял мне это, но я не мог ему поверить. Вашу сдержанность по
отношению к нему я объяснял вашим прямодушием и вашей скромностью; и все же я
думал, что, освободив вас от ваших сомнений, я добьюсь того признания, в
котором вы отказали ему.
— А что сказал он вам о нашей сегодняшней прогулке?
— Лишь несколько слов: «Попытайтесь, дорогой отец: это
единственное средство узнать, гордость или отчуждение закрывают для меня ее
сердце». — Увы, граф! Что подумаете вы обо мне, если я скажу вам, что и
сама этого не знаю?
— Я подумаю, дорогая Консуэло, что это отчуждение. Ах,
сын мой, бедный мой сын! Как ужасна его судьба! Единственная женщина, которую
он смог полюбить, не любит его. Только этого несчастья нам недоставало.
— Боже мой! Вы должны ненавидеть меня, граф, вы не
понимаете, как может противиться моя гордость, раз вы жертвуете своею. Вам
кажется, что для гордости такой девушки, как я, гораздо меньше оснований, а
между тем, поверьте, в эту минуту в сердце моем происходит борьба не менее
жестокая, чем та, из которой вы вышли победителем.
— Нет, я понимаю это. Не думайте, синьора, что я так
мало уважаю целомудрие, прямодушие и бескорыстие, чтобы не суметь оценить
гордость, опирающуюся на такие сокровища. Но то, что смогла победить отцовская
любовь (видите, я говорю с вами совершенно откровенно), я думаю, сможет
победить и любовь женщины. Ну что же, предположим даже, что вся жизнь Альберта,
ваша жизнь и моя были бы борьбой со светскими предрассудками, от чего пришлось
бы долго и много страдать и нам троим и моей сестре с нами. Да разве наша
взаимная любовь, чистая совесть, преданность друг другу не помогли бы нам стать
сильнее всего светского общества? Для великой любви ничтожны все те беды,
которые так страшат вас и за себя и за нас. Но вы с тоской и страхом ищете в
глубине своей души эту великую любовь и не находите ее, Консуэло, потому что ее
там нет.
— О да, в этом, и только в этом все препятствие, —
проговорила Консуэло, крепко прижимая руки к сердцу, — все остальное
пустяки. У меня тоже были предрассудки. Вы подаете мне пример того, как я
должна отбросить их, чтобы сравняться с вами в величии и героизме. Не будем
больше говорить о моих чувствах, о моем ложном стыде; не надо даже касаться
моей будущности и моего искусства, — добавила она со вздохом.
— Я смогу и от этого отречься, если… если… если я люблю
Альберта! Вот что нужно мне знать. Выслушайте меня, граф. Сто раз спрашивала я
себя об этом, но никогда у меня не было того спокойствия, какое дает мне теперь
ваше согласие. Как могла я раньше серьезно думать о чем-либо, когда даже самый
этот вопрос казался мне безумием и преступлением? Теперь же, мне кажется, я
сумею разобраться в себе и решить. Дайте мне несколько дней, чтобы собраться с
мыслями и понять, есть ли моя безмерная преданность ему, безграничное уважение,
внушаемое мне его достоинствами, эта огромная симпатия, эта странная власть его
слов надо мной, — есть ли все это любовь или восхищение. Ведь все это я
чувствую, граф, но с этим борется во мне невыразимый ужас, глубокая печаль и
(скажу вам без утайки, мой благородный друг!) воспоминание о любви, менее
восторженной, но более мягкой, более нежной, совсем непохожей на эту.
— Вы странная и благородная девушка! — с умилением
проговорил граф Христиан. — Сколько мудрости и своеобразия в ваших словах
и мыслях! Вы во многих отношениях похожи на моего бедного Альберта, а тревожная
неуверенность ваших чувств напоминает мне мою жену, мою благородную печальную
красавицу Ванду. О Консуэло! Какое сладкое и вместе с тем горестное
воспоминание будите вы в моей душе! Знаете, я хотел было сказать вам: победите
свою нерешительность, справьтесь со своими опасениями, полюбите этого
несчастного, обожающего вас человека, полюбите из чувства добродетели, величия
души, сострадания! Быть может, он и не даст вам счастья, но, спасая его, вы заслужите
награду на небесах. Однако вы напомнили мне его мать, отдавшуюся мне из чувства
долга и дружбы. Она не могла любить меня, простого, добродушного, робкого
человека, той восторженной любовью, которой жаждала ее душа. До конца она была
верна мне и великодушна, но как она страдала! Увы! Для меня ее любовь была и
отрадой и мукой, а ее постоянство — гордостью и укором. С горя она умерла, а
мое сердце было разбито навеки. И если сейчас я — существо ничтожное,
незаметное, мертвое, не слишком удивляйтесь этому, Консуэло. Я выстрадал то,
чего никому не понять. Ни одному человеку никогда я не говорил об этом. Вам
первой с трепетом открываю я свою душу. Нет, нет, пусть глаза мои закроются в
скорби и сын мой сейчас же погибнет под тяжестью своей судьбы, но я не буду
уговаривать вас пожертвовать собой, не буду убеждать Альберта принять от вас
такую жертву! Я слишком хорошо знаю, что значит насиловать природу, бороться с
ненасытной потребностью души. Обдумайте же все это не торопясь, дочь
моя, — закончил со слезами старый граф, прижимая ее к груди и с отеческой
нежностью целуя ее благородный лоб. — Так будет лучше. Если вы все-таки
откажете ему, то, подготовленный беспокойством, он не будет до такой степени
убит этой страшной вестью, как был бы поражен ею сегодня.
Условившись таким образом, они расстались. Консуэло, совсем
измученная волнениями и усталостью, стараясь не натолкнуться на Андзолето,
проскользнула по коридорам и заперлась в своей комнате.
Здесь девушка попыталась несколько успокоиться; чувствуя
себя совсем разбитой, она бросилась на постель и вскоре впала в тяжелое
забытье, скорее изнуряющее, чем восстанавливающее силы. Ей хотелось уснуть,
думая об Альберте, чтобы эти мысли как бы созрели в тех таинственных
проявлениях сна, в которых мы надеемся порою найти пророческий ответ на
волнующие нас вопросы. Но в ее отрывочных сновидениях в течение нескольких
часов непрестанно появлялся не Альберт, а Андзолето. Она видела Венецию,
Корте-Минелли, свою первую любовь, безмятежную, радостную, поэтическую. А
каждый раз, когда она пробуждалась, воспоминание об Альберте связывалось в ней
с воспоминанием о зловещей пещере, где звуки скрипки, удесятеренные эхом пустых
подземелий, вызывали тени мертвецов и плакали над свежей могилой Зденко. Страх
и печаль как бы закрывали ее сердце для любви, когда она представляла себе эту
картину. Будущее, которое ей сулили, рисовалось только среди мрачной тьмы и
кровавых видений, тогда как лучезарное, полное счастья прошлое заставляло
дышать свободно ее грудь и радостно биться сердце. Ей казалось, что в этих
снах, говоривших о прошлом, она слышит свой собственный голос, — он
растет, растет, наполняет все вокруг и, могучий, уносится к небесам. А когда ей
вспоминались фантастические звуки скрипки в пещере, этот же голос становился
резким, глухим и терялся, подобно предсмертному хрипу, в подземных безднах.
Все эти смутные видения до того утомили ее, что она встала с
постели, чтобы от них избавиться. Услышав первый призыв колокола, возвещавший,
что обед будет подан через полчаса, она стала одеваться, продолжая думать все о
том же. Но странная вещь: в первый раз в жизни она с интересом смотрелась в
зеркало, а своей прической и туалетом занялась гораздо внимательнее, чем
волновавшими ее серьезными вопросами. Она невольно прихорашивалась, ей хотелось
быть красивой. И это непреодолимое кокетство проснулось в ней не для того,
чтобы возбудить страсть и ревность любящих ее соперников, — она думала и
могла думать только об одном из них. Альберт никогда ни единым словом не
обмолвился об ее наружности. Охваченный своей страстью, быть может, он считал
ее даже красивее, чем она была на самом деле. Но мысли его были так возвышенны,
а любовь так велика, что он побоялся бы осквернить ее, взглянув на нее
восторженными глазами влюбленного или испытующим оком артиста. Для него она
была всегда окутана облаком, сквозь которое взор его не дерзал проникнуть и
которое его воображение окружало ослепительным ореолом. На внешние перемены он
не обращал внимания: для него она всегда была одинаковой. Он видел ее мертвенно
бледною, иссохшею, увядшею, борющеюся со смертью и более похожею на призрак,
чем на женщину. Тогда внимательно и с тревогой он искал в ее чертах лишь более
или менее страшные симптомы болезни, не замечая, что она подурнела, что, быть
может, она способна внушить ужас или отвращение. Когда же к ней вернулись блеск
и живость молодости, он даже не заметил, потеряла или выиграла от этого ее
внешность. Для него она и в жизни и в смерти была идеалом всего молодого,
высокого, идеалом несравненной красоты. Вот почему Консуэло перед зеркалом
никогда не думала об Альберте.
Совсем иначе обстояло дело с Андзолето. С каким бесконечным
вниманием он разглядывал, изучал ее в тот день, когда стремился и не мог
решить, красива она или нет. Как отмечал он малейшую черточку ее наружности,
малейшее усилие понравиться ему. Как знал ее волосы, руки, ноги, ее походку,
цвета, которые были ей к лицу, малейшую складку ее одежды. И с каким пылким
воодушевлением хвалил он ее наружность, с каким томным сладострастием смотрел
на нее! Целомудренная девушка не понимала тогда трепета своего сердца. Она не
хотела понимать его и теперь, а между тем вновь ощущала его, и почти с той же
силой, при мысли, что сейчас появится перед Андзолето. Она сердилась на себя,
краснела от стыда и досады, старалась наряжаться для одного Альберта — и
все-таки выбирала и прическу, и ленты, и даже взгляды, которые нравились
Андзолето. «Увы! Увы! — думала она, кончив одеваться и отрываясь от
зеркала. — Неужели я действительно могу думать только о нем и былое счастье
имеет надо мною больше власти, чем презрение к этому человеку и обещания новой
любви? Сколько я ни всматриваюсь в будущее, без него оно сулит мне лишь ужас и
отчаяние. Но каково было бы это будущее с ним? Разве я не знаю, что чудесные
дни Венеции безвозвратно прошли, что невинность больше не будет обитать с нами,
что душа Андзолето развращена, ласки его способны только унизить меня, а моя
жизнь была бы ежечасно отравлена стыдом, ревностью, страхом и раскаянием?»
Строго отдав себе отчет в том, что в ней происходит, Консуэло
поняла, что она нисколько не заблуждается относительно Андзолето и что от
чувства к нему в ней не осталось и следа. Она уже не любила его в настоящем,
боялась и почти ненавидела его, думая о будущем, которое могло бы только еще
больше развратить его, но В прошлом она так его обожала, что была не в силах
вырвать его ни из своей жизни, ни из своей души. Теперь он был для нее как бы
портретом, напоминающим любимое существо и сладостные дни, и подобно вдове,
которая тайком от нового супруга любуется изображением его предшественника, она
чувствовала, что умерший занимает в ее сердце больше места, чем живой.
|


