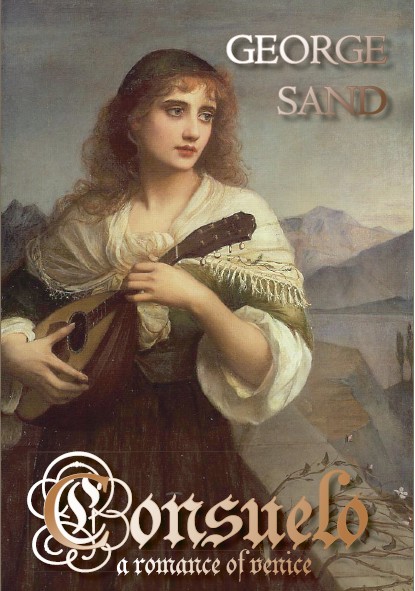
 Увеличить Увеличить |
Глава 39
— Приходилось ли вам когда-нибудь наблюдать, как вода
убывает и как она прибывает? — тихонько спросила Консуэло вечером капеллана,
когда тот всецело был поглощен своим пищеварением.
— Что такое? Что случилось? — воскликнул он,
вскакивая со стула и в ужасе тараща глаза.
— Я говорю о водоеме, — невозмутимо продолжала
она. — Приходилось ли вам самому наблюдать, как происходит это странное
явление?
— Ах, да! Вы о водоеме? Понимаю! — ответил он с
улыбкой сострадания.
«Вот, — подумал он, — опять начинается припадок
безумия».
— Да ответьте же мне, добрейший капеллан, —
сказала Консуэло, преследуя свою мысль с тем жаром, который она вносила во все
свои умственные занятия, но без всякого злого умысла по отношению к этому
достойному человеку.
— Признаюсь, синьора, — ответил он холодно, —
лично я никогда не видел того, чем вы интересуетесь, и, поверьте, меня это не
настолько беспокоит, чтобы ради этого я не спал по ночам.
— О! я в этом уверена, — нетерпеливо отозвалась
Консуэло.
Капеллан пожал плечами и с трудом поднялся со стула, чтобы
избегнуть этого настойчивого дознания.
«Ну что ж, если здесь никто не желает пожертвовать часом сна
для такого важного открытия, я, если понадобится, посвящу этому целую
ночь», — подумала Консуэло, и, подождав, пока все в замке разойдутся по
своим комнатам, она накинула плащ и пошла пройтись по саду.
Ночь была холодная, ясная, туман постепенно рассеивался, и
полная луна всходила на небосклоне; в ожидании ее восхода звезды побледнели, а
сухой воздух отражал каждый звук. Консуэло, возбужденная, но вовсе не разбитая
усталостью, бессонницей, своей великодушной и, быть может, несколько
болезненной тревогой, была в каком-то лихорадочном состоянии, которого даже
вечерняя прохлада не могла успокоить. Ей казалось, что она близка к
преследуемой цели. Романтическое предчувствие, которое она принимала за
приказание и поощрение свыше, поддерживало ее энергию и воодушевляло ее. Она
уселась на бугре, поросшем травою и обсаженном лиственницами, и стала
прислушиваться к тихому жалобному журчанию горного ручья на дне долины. Ей
почудилось, что временами к журчанию воды примешивается еще более нежный, более
жалобный голос. Она прилегла на траву, чтобы, находясь ближе к земле, лучше
уловить эти легкие, уносимые ветром звуки. Наконец она различила голос Зденко.
Он пел по-немецки, и она разобрала следующие слова, кое-как приспособленные к
чешской мелодии, наивной и меланхолической, как и та, что она слышала от него
раньше:
«Там, там душа в унынии и в тревоге ждет своего
освобождения. Освобождения и обещанного утешения.
Но, кажется, освобождение — в оковах, а утешение неумолимо.
Там, там душа в унынии и в тревоге томится ожиданием».
Когда голос умолк, Консуэло поднялась и оглянулась, ища
глазами Зденко; она обежала весь парк и сад, зовя его, и возвратилась, так и не
увидев юродивого.
Но через час, после длинной общей молитвы за графа Альберта,
на которую были созваны даже слуги замка, когда все легли спать, Консуэло
отправилась к «Источнику слез» и, усевшись на его каменной закраине, среди
диких, густых папоротников и посаженных Альбертом ирисов, стала пристально
смотреть на неподвижную воду, в которой, словно в зеркале, отражалась луна, стоявшая
в зените.
Так прошел час. Отважная девушка уже почувствовала, что
глаза ее начинают смыкаться от усталости, когда легкий шум на поверхности воды
разбудил ее. Она открыла глаза и увидела, что отражение луны в водоеме
колышется, разбивается и расплывается светлыми кругами. В то же время до нее
донеслось какое-то клокотание и глухой шум, сперва едва слышный, но затем все
усиливавшийся. Вода стала убывать, кружась, как в воронке, и менее чем в
четверть часа совсем исчезла в глубине.
Консуэло отважилась спуститься вниз на несколько ступенек.
Лестница, высеченная из гранитных глыб и вьющаяся спиралью в скале, была
сооружена, по-видимому, для того, чтобы можно было спускаться к воде, когда она
находится на разных уровнях. Скользкие, покрытые илом ступеньки, без всяких
перил, терялись в страшной глубине. Мрак, остаток воды, плескавшейся еще на дне
неизмеримой пропасти, невозможность удержаться слабыми ногами на вязкой тине —
все это заставило Консуэло отказаться от своей безумной попытки. Пятясь, она с
большим трудом поднялась наверх и, дрожащая, подавленная, присела на верхней
ступеньке.
Между тем вода, казалось, продолжала убегать в недра земли:
шум становился все глуше, пока совсем не затих. Консуэло хотела было сходить за
фонарем, чтобы осмотреть сверху, насколько это возможно, внутренность колодца,
но, опасаясь упустить приход того, кого ждала, осталась и терпеливо просидела,
не двигаясь, еще почти целый час. Наконец ей показалось, что на дне колодца
виден слабый свет, и, с тревогой нагнувшись, она увидела, что этот колеблющийся
свет мало-помалу движется кверху. Вскоре она уже не сомневалась: Зденко
поднимался по спиральной лестнице, придерживаясь за железную цепь, вделанную в
скалу. По шуму, который он производил, хватаясь за эту цепь и бросая ее,
Консуэло догадалась о том, что в колодце были своеобразные перила, которые
кончались на известной высоте и существования которых она никак не могла бы
предположить. Зденко нес с собой фонарь. Он повесил его на крюк, очевидно для
этой цели вбитый в скалу футах в двадцати ниже уровня земли, а затем легко и
быстро поднялся по лестнице уже без помощи цепи или какой-либо видимой опоры.
Однако Консуэло, следившая за ним с большим вниманием, заметила, что он
придерживается за некоторые выступы скалы, за наиболее крепкие растения в стене
и даже, может быть, за какие-нибудь согнутые, торчавшие в стене гвозди,
нащупывая их привычной рукой. В тот момент, когда он поднялся настолько высоко,
что мог бы заметить Консуэло, она спряталась за каменную полукруглую закраину,
обрамлявшую водоем. Зденко вышел и принялся рвать на клумбах цветы, составляя,
видимо с разбором и не торопясь, большой букет. Затем он направился в кабинет
Альберта, и Консуэло видела через стеклянную дверь, как он долго рылся там в
книгах, пока наконец не нашел той, которая, видимо, и была нужна, так как он
вернулся к водоему довольный, смеясь и что-то бормоча еле слышно: как видно,
его всегдашняя потребность говорить самому с собой боролась в нем со страхом
разбудить обитателей замка.
Консуэло еще не решила, стоит ли к нему подойти и попросить
проводить ее к Альберту. Надо правду сказать: пораженная всем виденным,
взволнованная затеянным ею делом, довольная тем, что ее предчувствия
оправдались, но вместе с тем и ужасаясь при мысли, что надо будет спуститься в
недра земли и в глубь вод, она в эту минуту не нашла в себе мужества пойти
напрямик к развязке и предоставила Зденко спуститься так же, как он и поднялся,
снять свой фонарь и исчезнуть. По мере того как он уходил все глубже под землю,
голос его становился все громче, и теперь Консуэло уже ясно слышала загадочные
слова:
«Освобождение — в оковах, утешение — неумолимо».
С замирающим сердцем Консуэло, нагнувшись над колодцем, раз
десять собиралась окликнуть его. Наконец, сделав над собой героическое усилие,
она уже совсем было решилась это сделать, но тут ей пришло в голову, что Зденко
может от неожиданности поскользнуться на этой опасной лестнице, сорваться и
разбиться насмерть. Она воздержалась на этот раз, но дала себе слово, что
завтра, в более подходящую минуту, будет храбрее. Консуэло подождала еще, чтобы
посмотреть, каким образом будет подниматься вода. Поднялась она гораздо
быстрее, чем опускалась: не прошло и четверти часа с того мгновения, когда
Зденко скрылся со своим фонарем и голос его затих, как послышался глухой
грохот, похожий на отдаленные раскаты грома, и вода хлынула с необычайной
силой, кружась, бурля и колотясь о стены своей тюрьмы. Это внезапное вторжение
воды было так страшно, что Консуэло затрепетала: ведь бедный Зденко, играя с
такими опасностями, распоряжаясь таким образом силами природы, может быть
унесенным
бурным течением и выброшенным на поверхность водоема, как
эти плавающие, покрытые илом растения!
А между тем это происходило, должно быть, очень просто. Быть
может, стоило только поднять и опустить шлюз или, приходя, положить камень, а
уходя, снять его. Но этот человек, такой рассеянный, всегда погруженный в свои
странные мечтания, разве не мог он ошибиться и сдвинуть этот камень чуточку
раньше, чем следовало? Приходит ли он по тому самому подземному ходу, по
которому устремляется и вода из источника? «Так или иначе, но я должна
пробраться туда с ним или без него, — сказала себе Консуэло, — и это
будет не позже завтрашней ночи, так как там есть душа в тревоге и в унынии,
которая ждет меня и томится ожиданием. Ведь не случайно же Зденко пел это, и не
без цели он, ненавидя немецкий язык и с трудом изъясняясь на нем, нынче вдруг
заговорил по-немецки».
Наконец она пошла спать, но страшные кошмары терзали ее всю
ночь. Лихорадочное состояние ее усиливалось, но, еще полная сил и решимости,
она не отдавала себе отчета в этом, а только поминутно просыпалась в испуге,
воображая, что она все еще на ступеньках той ужасной лестницы и не в силах на
нее подняться, а вода под ней все прибывает и прибывает с глухим ревом и
молниеносной быстротой.
За ночь она так изменилась в лице, что утром все это
заметили. Капеллан не мог удержаться, чтобы не шепнуть канониссе, что эта
«приятная и любезная особа», по-видимому, не в своем уме. И добрая Венцеслава,
не привыкшая видеть среди окружающих столько мужества и самоотверженности, сама
начала думать, что Порпорина по меньшей мере девушка весьма экзальтированная,
нервная и легко поддающаяся возбуждению, — канонисса слишком надеялась на
свои крепкие, обитые железом двери и верные ключи, постоянно бряцавшие у ее
пояса, чтобы продолжать верить в появление и исчезновение Зденко в позапрошлую
ночь. Поэтому она обратилась к Консуэло с ласковыми и полными сострадания
словами, умоляя ее не принимать так близко к сердцу их семейное горе, подумать
о своем здоровье, в то же время стараясь поддержать в девушке надежду на
возвращение Альберта, — надежду, которая, надо сказать, начала уже умирать
в глубине ее души.
Но она была поражена и вместе с тем обрадована, когда
Консуэло с блестящими от восторга глазами и радостной улыбкой, в которой
сквозила некоторая гордость, ответила ей:
— Вы правы, что верите в его возвращение и ждете его,
дорогая синьора. Граф Альберт не только жив, но, надеюсь, и неплохо себя
чувствует, так как в своем убежище интересуется любимыми книгами и цветами. В
этом я убеждена и могу вам представить доказательства.
— Что вы хотите сказать этим, дорогое дитя мое? —
воскликнула канонисса, поддаваясь ее уверенному тону. — Что вы узнали? Что
вы открыли? Ради самого бога, говорите, верните к жизни несчастную семью!
— Скажите графу Христиану, что его сын жив и недалеко
отсюда. Это так же верно, как то, что я люблю вас и уважаю.
Канонисса вскочила, чтобы бежать к брату, который еще не
спускался в гостиную, но взгляд и вздох капеллана удержали ее на месте.
— Не будем так опрометчиво радовать моего бедного
Христиана, — проговорила она, также вздыхая. — Знаете, дорогая, если
бы ваши чудесные обещания не сбылись, мы нанесли бы несчастному отцу
смертельный удар!
— Вы сомневаетесь в моих словах? — спросила с
удивлением Консуэло.
— Упаси меня бог, благородная Нина! Но вы можете
заблуждаться! Увы, с нами самими это не раз случалось! Вы говорите, дорогая, о
доказательствах. Не могли ли бы вы привести их нам?
— Не могу… или, скорее, мне кажется, что я не должна
это делать, с некоторым смущением проговорила Консуэло. — Я открыла тайну,
которой граф Альберт, несомненно, придает большое значение, но не считаю себя
вправе выдать ее без его согласия.
— Без его согласия! — воскликнула канонисса,
нерешительно глядя на капеллана. — Уж и вправду не видела ли она его?
Капеллан еле заметно пожал плечами, совершенно не понимая,
как он терзает бедную канониссу своим недоверием.
— Я его не видела, — продолжала Консуэло, —
но скоро увижу, и вы тоже, надеюсь, увидите. Вот почему я и боюсь задержать его
возвращение своей нескромностью, противное его воле.
— Да царит божественная истина в твоем сердце,
великодушное создание, и пусть говорит она твоими устами! — проговорила
растроганная канонисса, глядя на Консуэло нежно, но все же с некоторым
беспокойством. — Храни свою тайну, если она у тебя есть, и верни нам
Альберта, если ты в силах это сделать! Одно могу сказать: если это
осуществится, я буду целовать твои колена, как сейчас целую твой бедный лоб… влажный
и горячий, — прибавила она, прикасаясь губами к прекрасному воспаленному
лбу молодой девушки и взволнованно глядя на капеллана.
— Если она и безумна, — сказала Венцеслава
капеллану, как только они остались наедине, — все-таки это ангел доброты,
и мне кажется, она принимает наши страдания ближе к сердцу, чем мы сами. Ах,
отец мой!
Над этим домом тяготеет проклятие: здесь каждого, у кого в
груди бьется редкое, удивительное сердце, поражает безумие, и наша жизнь
проходит в том, что мы жалеем тех, кем должны восхищаться.
— Я вовсе не отрицаю добрых побуждений юной
иностранки, — возразил капеллан, — но рассказ ее — бред, не
сомневайтесь в этом, сударыня. Она, по-видимому, сегодня ночью видела во сне
графа Альберта и вот неосторожно выдает нам свои сны за действительность.
Остерегайтесь смутить благочестивую, покорившуюся душу вашего почтенного брата
такими пустыми, легкомысленными уверениями. Быть может, не следовало бы также
слишком поощрять и безрассудную храбрость синьоры Порпорины… Это может привести
ее к опасностям иного рода, чем те, которым она так смело шла навстречу до сих
пор…
— Я вас не понимаю! — с серьезным и наивным видом
ответила канонисса Венцеслава.
— Очень затрудняюсь объяснить вам это… — проговорил
достойный пастырь. — А все-таки мне кажется, что если бы тайное общение,
понятно, самое чистое, самое бескорыстное, возникло между этой молодой
артисткой и благородным графом…
— Ну и что же? — спросила канонисса с удивлением.
— Что же? А не думаете ли вы, сударыня, что внимание и
заботливость, сами по себе весьма невинные, могут в короткое время благодаря
обстоятельствам и романтическим идеям вылиться в нечто опасное для спокойствия
и достоинства молодой музыкантши?
— Мне это никогда не пришло бы в голову! —
воскликнула канонисса, пораженная этими соображениями. — Неужели, отец
мой, вы допускаете, что Порпорина может забыть свое скромное, зависимое
положение и войти в какие-либо отношения с человеком, который стоит настолько
выше ее, как мой племянник Альберт фон Рудольштадт!
— Граф Альберт фон Рудольштадт может сам невольно
наталкивать ее на это, проповедуя, что преимущества рождения и класса — одни
лишь пустые предрассудки.
— Знаете, вы заронили в мою душу серьезное
беспокойство, — сказала Венцеслава, в которой пробудилась фамильная
гордость и тщеславие, порожденное происхождением, — единственная ее
слабость. — Неужели зло уже зародилось в этом юном сердце? Неужели в ее
возбуждении, в стремлении разыскать Альберта говорит не прирожденное
великодушие, не привязанность к нам, а менее чистые побуждения?
— Хочу надеяться, что пока этого еще нет, —
ответил капеллан, у которого была единственная страсть — разыгрывать при помощи
своих советов и суждений особую роль в графской семье, сохраняя при этом вид
робкого почтения и раболепной покорности. — Но вам все-таки следует, дочь
моя, не закрывать глаза на последующие события и все время помнить об
опасности. Эта трудная роль как нельзя больше по вас, так как небо наградило
вас осторожностью и проницательностью.
Разговор этот очень взволновал канониссу и дал совершенно
новое направление ее тревогам. Словно забывая, что Альберт почти потерян для
нее, что он, быть может, в данную минуту умирает или даже умер, она была
всецело озабочена мыслью, как предотвратить последствия того, что в душе
называла «неподходящей» привязанностью. Она походила в этом на индейца из
басни, который, спасаясь от свирепого тигра, влез на дерево и отгонял
докучливую муху, жужжавшую над его головой.
В течение всего дня она не сводила глаз с Порпорины, следя
за каждым ее шагом, тревожно взвешивая каждое ее слово. Наша героиня, — а
в данное время наша мужественная Консуэло была героиней в полном смысле этого
слова, — не могла не заметить беспокойства канониссы, но была далека от
того, чтобы объяснить его чем-либо иным, кроме недоверия к ее обещанию вернуть
Альберта. Девушка и не старалась скрыть свое волнение, так как ее спокойная,
безупречная совесть подсказывала ей, что она может не краснеть за свой замысел,
а гордиться им. Чувство смущения, вызванное в ней несколько дней назад
восторженным отношением молодого графа, рассеялось перед серьезной решимостью
действовать, рожденной отнюдь не личным тщеславием. Язвительные насмешки
Амелии, угадывавшей ее план, хотя и не знавшей его подробностей, мало ее
трогали. Едва обращая на них внимание, она отвечала лишь улыбкой, предоставляя
канониссе прислушиваться к колкостям юной баронессы, запоминать их,
истолковывать и находить в них страшный тайный смысл.
|


