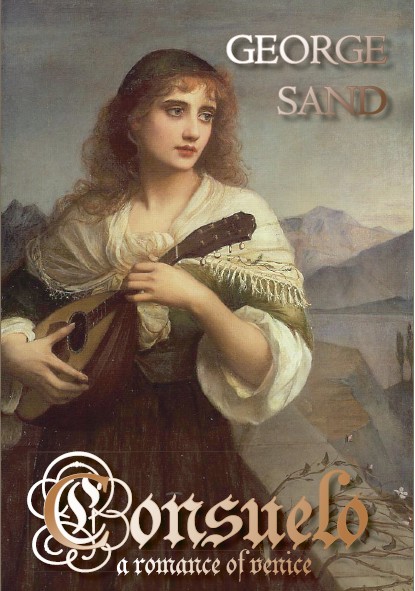
 Увеличить Увеличить |
Глава 55
Сначала Альберт сыграл на своей скрипке старинные песнопения
неизвестных у нас и забытых в Богемии авторов, которые перешли к Зденко от его
предков и которые молодой граф записал после долгих трудов и дум. Он так
проникся духом этих произведений, на первый взгляд диких, но глубоко
трогательных и истинно прекрасных своей серьезной и ясной манерой, и так усвоил
их, что мог долго импровизировать на эти темы, дополняя их собственными
вариациями, схватывая и развивая основное чувство произведения, но не
поддаваясь чрезмерно своему личному вдохновению, а сохраняя благодаря искусному
и вдумчивому толкованию своеобразный, строгий и проникновенный характер этих
старинных напевов. Консуэло хотела было запомнить эти драгоценные образцы
пламенного народного гения старой Богемии, но это ей не удавалось, отчасти
из-за мечтательного настроения, в котором она пребывала, отчасти из-за
неопределенности этой музыки, чуждой ее уху.
Есть музыка, которую можно назвать естественной, так как она
является плодом не науки и не размышления, а вдохновения, не поддающегося
строгим правилам или условностям. Такова народная музыка, по преимуществу
музыка крестьян. Сколько чудесных песен рождается и умирает среди них, так и не
удостоившись точной записи и не получив окончательного отображения в виде
определенной темы. Неизвестный артист, который импровизирует безыскусственную
балладу, охраняя свои стада или идя за плугом (а таких еще немало даже в
странах, кажущихся наименее поэтичными), редко когда сумеет запомнить и тем
более записать свои мимолетные мысли. От него эта баллада переходит к другим
музыкантам, таким же детям природы, как и он сам, а те ее переносят из деревни
в деревню, из хижины в хижину, причем каждый изменяет ее сообразно своему
дарованию. Вот почему эти деревенские песни и романсы, такие прелестные своей
наивностью и глубиной чувства, большей частью утрачиваются и редко живут больше
ста лет в памяти народа. Ученые музыканты не особенно заботятся их собирать.
Большинство пренебрегает ими, не обладая достаточно ясным пониманием и
возвышенным чувством, других же отталкивает то, что почти невозможно найти подлинную
первоначальную мелодию, которая, быть может, уже не существует и для самого
автора и которую, разумеется, никогда не оставляли определенной и неизменной
многочисленные ее исполнители. Одни изменяли ее по своему невежеству, другие
развивали, украшали и улучшали ее благодаря своему превосходству, ибо изучение
искусства не заглушило в них непосредственности восприятия. Они и сами не
сознавали, что преобразили первоначальное произведение, а их простодушные
слушатели тоже не замечали этого. Крестьянин не исследует и не спрашивает. Если
небо создало его музыкантом, он поет как птица — подобно соловью, без устали
импровизирующему, хотя основные элементы его пения, варьируемые до
бесконечности, остаются неизменными. Плодовитость народного гения беспредельна.
Ему не нужно записывать свои произведения, — он творит без отдыха, подобно
земле, им обрабатываемой; он творит ежечасно, подобно природе, его
вдохновляющей.
В сердце Консуэло была и чистота, и поэзия, и чуткость —
словом, все, что нужно, чтобы понимать и страстно любить народную музыку. В
этом тоже проявлялась великая артистка, и усвоенные ею научные теории не убили
в ее таланте ни свежести, ни мягкой нежности — этих сокровищ вдохновения и
юности души. Бывало, она не раз тайком от Порпоры признавалась Андзолето, что
некоторые баллады рыбаков Адриатического моря гораздо больше говорят ее сердцу,
чем все высокие произведения падре Мартини или маэстро Дуранте вместе взятые.
Испанские песни и болеро, исполнявшиеся ее матерью, были для нее источником
поэзии, откуда она черпала теперь свои любимые воспоминания. Какое же
впечатление должен был произвести на нее музыкальный гений Чехии, вдохновение
этого народа — народа пастухов и воинов, фанатично-сурового и нежного, сильного
в своей трудовой жизни! Все в этой музыке было для нее и ново и поразительно.
Альберт передавал ее с редким пониманием народного духа и породившего ее
могучего религиозного чувства. Импровизируя, он вносил в эту музыку глубокую
меланхолию и раздирающую сердце жалобу — эти следы угнетения, запечатлевшиеся в
душе его народа и его собственной. И это смешение грусти и отваги, экзальтации
и уныния, благодарственных гимнов и воплей отчаяния было самым совершенным и
самым глубоким выражением переживаний несчастной Богемии и несчастного
Альберта.
Справедливо говорят, что цель музыки — возбудить душевное
волнение. Никакое другое искусство не пробуждает столь возвышенным образом
благородные чувства в сердце человека; никакое другое искусство не изобразит
перед духовными очами красоту природы, прелесть созерцания, своеобразие
народов, бурю их страстей и тяжесть страданий. Сожаление, надежда, ужас,
сосредоточенность духа, смятение, энтузиазм, вера, сомнение, слава, спокойствие
— все это и еще многое другое музыка дает нам или отнимает у нас силою своего
гения и в меру нашей восприимчивости. Она воссоздает даже внешний вид вещей и,
не впадая в мелочные звуковые эффекты или в узкое подражание шумам
действительности, показывает нам сквозь туманную дымку, возвышающую и
обожествляющую их, те предметы внешнего мира, к которым она уносит наше
воображение. Иные песнопения воссоздали перед нами исполинские призраки древних
соборов и в то же время заставили нас проникнуть в мысли народов, которые
построили их и повергались там ниц, распевая свои религиозные гимны. Для того,
кто сумел бы сильно и просто передать музыку разных народов, и для того, кто
сумел бы должным образом ее слушать, нет надобности ездить по всему свету,
знакомиться с разными национальностями, осматривать их памятники, читать их
книги, странствовать по их степям, горам, садам и пустыням. Хорошо переданная
еврейская мелодия переносит нас в синагогу; вся Шотландия отражается в
подлинной шотландской песне, как и вся Испания в подлинной испанской. Таким
образом мне удалось не раз побывать в Польше, в Германии, в Неаполе, в
Ирландии, в Индии, и я лучше знаю этих людей и эти страны, чем если бы мне
пришлось изучать их целые годы. В одно мгновение я переносился к ним и жил их
жизнью; обаяние музыки позволяло мне приобщиться к самой сущности этой жизни.
Постепенно Консуэло перестала слушать и даже слышать скрипку
Альберта. Вся душа ее насторожилась, а чувства, отрешившись от внешних
восприятии, витали в ином мире, увлекая ее дух в неведомые сферы, где обитали
иные существа. Она видела, как в странном хаосе, ужасном и в то же время
прекрасном, мечутся призраки былых героев Чехии; она слышала погребальный звон
монастырских колоколов, в то время как грозные табориты, худые, полунагие,
окровавленные, свирепые, спускались с вершин своих укрепленных гор. Потом она
видела ангелов смерти — на облаках, с чашей и мечом в руке; повиснув густой
толпою над головами вероломных первосвященников, они изливали на проклятую
землю чашу божьего гнева. И ей чудилось, будто она слышит удары их тяжелых
крыльев, видит, как кровь Христа крупными каплями падает за их спинами, чтобы
угасить пожар, зажженный их яростью. То ей рисовалась ночь, полная ужаса и
мрака, и она слышала стоны и хрипение умирающих, покинутых на поле битвы; то
мерещился ей ослепительно палящий день, и «Грозный слепец», в круглой каске,
заржавленном панцире, с окровавленной повязкой на глазах, проносился, словно
молния, на своей повозке. Храмы открываются сами собой при его приближении,
монахи прячутся в недра земли, унося в полах своих одежд реликвии и сокровища.
Тогда победители приносят изможденных старцев, покрытых, подобно Лазарю,
язвами, прибегают юродивые, распевая и смеясь, как Зденко, проходят палачи,
обрызганные запекшейся кровью, малые дети с непорочными руками и ангельскими
личиками, женщины-воительницы со связками пик и смоляных факелов — и все
усаживаются за общий стол. И ангел, светозарный и прекрасный, как на
апокалиптических картинах Альбрехта Дюрера, подносит к их жаждущим устам
деревянную чашу прощения, искупления и божественного равенства.
Этот ангел является во всех видениях, проносящихся в эту
минуту перед глазами Консуэло. Вглядываясь, она узнает в нем сатану, самого
прекрасного из всех бессмертных после бога, самого печального после Иисуса,
самого гордого из всех гордых; он влачит за собою порванные им цепи, и его
бурые крылья, истрепанные и повисшие, хранят на себе следы насилия и заточения.
Скорбно улыбаясь людям, оскверненным злодеяниями, он прижимает к своей груди
маленьких детей.
Вдруг Консуэло почудилось, будто скрипка Альберта заговорила
и произнесла устами сатаны: «Нет, Христос, мой брат, любил вас не больше, чем я
люблю. Пора вам узнать меня, пора, вместо того чтобы называть врагом рода
человеческого, снова увидеть во мне друга, поддерживающего вас в борьбе. Я не
демон, я — архангел, вождь восстания и покровитель великой борьбы. Как и
Христос, я — бог бедных, слабых и угнетенных. Когда он обещал вам царство божие
на земле, когда он возвещал вам свое второе пришествие, он этим хотел сказать,
что после преследований вы будете вознаграждены, завоевав себе вместе с ним и
со мною свободу и счастие. Мы должны были вернуться вместе, и действительно
возвращаемся, но настолько слитые друг с другом, что составляем одно целое. Это
он, божественное начало, бог разума, спустился в ту тьму, куда меня бросило
невежество и где я, горя в пламени вожделения и негодования, претерпевал муки,
подобные тем, что заставили и его испытать на кресте книжники и фарисеи всех
времен. Но отныне я навсегда с вашими детьми; он разорвал мои цепи, загасил мой
костер, примирил меня с богом и с вами. Отныне правом и уделом слабого будет не
хитрость и не страх, а гордость и сила воли. Иисус милосерд, кроток, нежен и
справедлив; я тоже справедлив, но я силен, воинственен, суров и упорен. О
народ! Разве ты не узнаешь того, чей голос звучал в тайниках твоего сердца с
тех пор, как ты существуешь? Того, который среди всех твоих бедствий
поддерживал тебя, говоря: „Добивайся счастья, не отрекайся от него. Счастье —
твое право! Требуй его, и ты его добьешься! «? Разве ты не видишь на моем челе
следов всех твоих страданий, а на моих истерзанных членах рубцов от оков,
которые ты носил? Испей чашу, которую я тебе принес: ты найдешь в ней мои
слезы, смешанные со слезами Христа и твоими собственными, и ты почувствуешь,
что они одинаково жгучи и одинаково целительны“.
Эта галлюцинация переполнила скорбью и жалостью сердце
Консуэло. Ей казалось, будто она видит падшего ангела, слышит, как он плачет и
стонет подле нее. Он был высок, бледен, прекрасен, с длинными спутанными
волосами над опаленным молнией, но все же гордо поднятым к небу челом. Она
восхищалась им, трепеща и все еще боясь его по привычке, и уже любила той
братской, благоговейной любовью, какую рождают великие несчастья. Вдруг ей
почудилось, будто, окруженный группой чешских братьев, он обратился именно к
ней, мягко упрекая за недоверие и страх, почудилось, будто он притягивает ее к
себе магнетическим взором, против которого невозможно устоять. Очарованная, вне
себя, она вскочила, бросилась к нему и, протянув руки, опустилась перед ним на
колени. Альберт выронил скрипку, которая упала, издав жалобный стон, и с криком
удивления и восторга заключил девушку в свои объятия. Это его она слышала, его
видела, мечтая о мятежном ангеле; это его лицо притягивало и покоряло ее. Это
ему, прижавшись сердцем к его сердцу, она прошептала прерывающимся голосом:
«Твоя! Твоя, о ангел скорби! Твоя и божья навеки!»
Но едва прикоснулся Альберт дрожащими губами к ее губам, как
она вся похолодела, и нестерпимая боль пронзила ей грудь и мозг, одновременно
леденя и обжигая ее. Внезапно очнувшись от своей мечты, она была так страшно
потрясена, что ей показалось, будто она умирает; вырвавшись из объятий графа,
она упала на алтарь, и груда черепов со страшным шумом рухнула на нее. Покрытая
этими человеческими останками, видя перед собой Альберта, которого она только
что, в минуту безумного возбуждения, обнимала, как бы давая ему этим право на
свою душу и свою судьбу, она почувствовала такую ужасную, такую мучительную
тоску, что, спрятав лицо в распустившихся волосах и рыдая, закричала:
— Скорей отсюда, скорей! Ради бога, воздуха! Света!
Господи, выведи меня из этого склепа, дай мне увидеть солнце!
Альберт, видя, как она все больше бледнеет и начинает
бредить, бросился к ней, чтобы вынести ее из подземелья. Но в своем ужасе она
этого не поняла, вскочила и кинулась бежать в глубь пещеры, не обращая внимания
на воды потока, таившего в некоторых местах несомненную опасность.
— Ради бога! — закричал Альберт. — Не туда!
Остановитесь! Вам грозит смерть! Подождите меня!
Но крик его только усилил ее страх, и она, не отдавая себе
отчета в том, что делает, бросилась вперед, дважды с легкостью козы перепрыгнув
через излучины потока; наконец, наткнувшись в темноте на земляную насыпь,
обсаженную кипарисами, она упала ничком на мягкую, недавно взрыхленную землю.
Этот толчок разрядил ее нервное состояние: ужас сменился в
ней оцепенением. Задыхаясь, с трудом ловя ртом воздух, она лежала, не отдавая
себе отчета в том, что с ней произошло, так что граф смог наконец подойти. У
него хватило присутствия духа захватить один из горевших факелов, в расчете на
то, что если ему не удастся догнать ее, то он хотя бы осветит ей самое опасное
и глубокое место потока, к которому она, видимо, устремлялась. Бедный молодой
человек, совсем подавленный и разбитый такими внезапно пережитыми
противоположными волнениями, не смел ни заговорить с ней, ни поднять ее. Тут
она сама привстала и села на земляную насыпь, о которую только что споткнулась.
Она тоже не решалась заговорить с Альбертом. Смущенная, опустив глаза, она рассеянно
глядела в землю. Вдруг она заметила, что холмик, на котором она сидит, —
недавно засыпанная могила, убранная слегка увядшими кипарисовыми ветками и
засохшими цветами. Как ужаленная, она вскочила и, не будучи в силах справиться
с новым охватившим ее припадком ужаса, вскричала:
— О Альберт, кого вы похоронили здесь?
— Я похоронил тут самое дорогое, что было у меня на
свете до встречи с вами, — с глубочайшей скорбью ответил он. — Если
это святотатство, господь простит мне его! Я совершил его в минуту безумия,
стремясь выполнить священный долг. Потом я вам скажу, какая душа обитала в том
теле, что покоится здесь. Теперь вы слишком взволнованы, и вам нужно скорее на
воздух. Идемте, Консуэло, покинем это место, где вы в течение одной минуты
сделали меня и счастливейшим и несчастнейшим из людей.
— О да! Выйдем отсюда! Я не знаю, какие испарения
поднимаются здесь из земли, но чувствую, что умираю, теряю рассудок.
Не вымолвив больше ни слова, они вышли. Альберт с факелом
шел впереди, освещая своей спутнице каждый встречный камень. Когда он открывал
дверь кельи, Консуэло, несмотря на свое состояние, как истая артистка,
вспомнила о драгоценном инструменте.
— Альберт, — сказала она, — вы забыли у
источника вашу чудесную скрипку. Она доставила мне сегодня столько неведомых до
сей поры переживаний, что я никак не могу примириться с тем, чтобы она погибла
там от сырости.
Альберт сделал жест, говоривший, как ему безразлично теперь
все, кроме Консуэло. Но она продолжала настаивать:
— Она сделала мне много зла, эта скрипка, но все же…
— Если она вам сделала только зло, пусть
погибает! — с горечью проговорил он. — Во всю свою жизнь я не
дотронусь до нее. Мне даже хочется, чтобы она погибла как можно скорее.
— Я солгала бы, сказав, что скрипка причинила мне
только зло, — возразила Консуэло, в которой снова проснулось уважение к
музыкальному дарованию графа. — Просто волнение оказалось выше моих сил —
и восхищение превратилось в страдание. Друг мой, сходите же за ней! Мне хочется
собственноручно и бережно уложить ее в футляр до той минуты, когда ко мне
вернется мужество снова вложить ее в ваши руки и еще раз послушать ее.
Консуэло была тронута тем взглядом, которым поблагодарил ее
граф за эти слова надежды. Он повиновался и пошел за скрипкой в пещеру.
Оставшись на несколько минут одна, она стала упрекать себя за свой безумный
ужас, за страшное подозрение. С дрожью и краской стыда вспомнила она
лихорадочный порыв, бросивший ее в объятия графа, но при этом она не могла не
преклониться мысленно перед скромностью и целомудренной застенчивостью этого
человека, который, обожая ее, не посмел воспользоваться таким моментом, чтобы
сказать ей хотя бы одно слово любви. Его грусть, вялость движений достаточно
красноречиво говорили о том, что в нем умерла всякая надежда. Она почувствовала
к нему бесконечную благодарность за эту тонкость чувств и дала себе слово
смягчить самыми ласковыми словами прощальное приветствие, предстоящее им при
выходе из подземелья.
Но воспоминание о Зденко, подобно мстительному призраку,
продолжало преследовать ее, обвиняя Альберта против ее воли. Подойдя к двери,
она увидела, что на ней написано что-то по-чешски. Все слова, за
исключением одного, были ей понятны по той причине, что она
знала их наизусть. На черной двери чья-то рука (это могла быть только рука
Зденко) мелом написала: «Обиженный да… тебе». Одно слово было непонятно для
Консуэло, это изменение очень ее встревожило. Альберт возвратился и сам спрятал
в футляр свою скрипку: у Консуэло не хватило мужества сделать это, —
больше того, ей даже в голову не пришло исполнить то, что она обещала. Ее снова
охватило желание выйти поскорее из этого подземелья. Пока Альберт с трудом
запирал заржавленный замок, она не смогла удержаться и, указав пальцем на
таинственное слово, вопросительно взглянула на своего спутника.
— Оно значит, — со странным спокойствием ответил
Альберт, — что непризнанный ангел, друг несчастных, тот, о котором мы
только что с вами говорили, Консуэло…
— Да, сатана, я знаю. Но что же дальше?
— Так вот: «Сатана пусть простит тебе!»
— Что простит? — спросила она, бледнея.
— Если страдание тоже требует прощения, то мне нужно
долго молиться, — с какой-то светлой грустью проговорил граф.
Они вышли в галерею и до самого «Подвала монаха» не
проронили ни слова. Но когда дневной свет, пробиваясь синеватыми отблесками
сквозь листву, упал на лицо Альберта, Консуэло увидела, как безмолвные слезы
двумя ручьями медленно катятся по его щекам. Это огорчило девушку; и все-таки,
когда Альберт боязливо подошел к ней, чтобы перенести через воду в пещере, она
уже собиралась промочить ноги в этой солоноватой воде, лишь бы не позволить ему
взять себя на руки. Отказалась она от его услуг под тем предлогом, что он,
видимо, очень устал, и уже хотела в своей легкой обуви войти в тину, как вдруг
Альберт, загасив факел, проговорил:
— Прощайте же, Консуэло, видя ваше отвращение к себе, я
должен погрузиться в вечную ночь: как призрак, вызванный вами на мгновение, я
сумел только напугать вас — и потому я возвращаюсь в свою могилу.
— Нет, ваша жизнь принадлежит мне, — воскликнула
Консуэло, оборачиваясь и удерживая его. — Вы дали мне клятву никогда без
меня не входить в эту пещеру, и вы не имеете права взять ее назад.
— Зачем же хотите вы бремя человеческой жизни возложить
на призрак?
Одинокий — лишь тень человека; а тот, кого не любят, одинок
всюду и со всеми.
— Альберт! Альберт! Вы надрываете мне сердце! Пойдемте,
несите меня отсюда! Быть может, при дневном свете я наконец разберусь в своей
судьбе.
|


