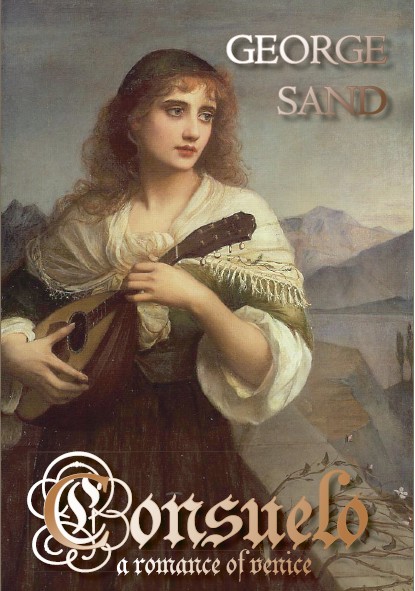
 Увеличить Увеличить |
Глава 54
Дверь «церкви» была открыта; Консуэло остановилась на
пороге, чтобы рассмотреть вдохновенного виртуоза и необычайное святилище. Так
называемая «церковь» представляла собой просто огромную пещеру, высеченную,
вернее выдолбленную, в скалах руками природы и в особенности подземными водами.
Несколько факелов, укрепленных в разных местах на гигантских глыбах, бросали
фантастический свет на зеленоватые скалистые стены. Свет этот не проникал в
мрачные углубления, откуда неясно выступали очертания длинных сталактитов,
похожих на призраки. Это были огромные причудливые нагромождения, образованные
проникшей сюда когда-то водой. Они были то скручены, как чудовищные змеи,
которые, сплетясь, пожирали друг друга, то, вылезая из почвы и опускаясь со
сводов в виде чудовищных игл, походили на колоссальные зубы, оскаленные в
раскрытых пастях, образуемых черными углублениями скал. Кое-где виднелось
что-то вроде бесформенных статуй, исполинских изображений варварских богов
древности. Свойственная скалам растительность: огромные лишаи, жесткие, как
чешуя драконов, гирлянды так называемых «оленьих языков» с широкими тяжелыми
листьями, группы молодых кипарисов, недавно посаженных посредине пещеры на
бугорках наносной земли, похожих на могильные холмы, — все это придавало
пещере мрачный, величественный и зловещий вид, поразивший воображение молодой
артистки. Но первое чувство ужаса вскоре сменилось восторгом. Подойдя ближе,
она увидела Альберта, стоявшего у источника, который пробивался в середине
пещеры. Сделанный для него резервуар был так глубок, что клокотание обильных
вод источника совсем не было заметно на его поверхности. Она была гладка и
неподвижна, как глыба темного сапфира, а в красивых водяных растениях,
посаженных по ее краям Альбертом и Зденко, не было заметно ни малейшей дрожи.
Источник был горячий, и его теплые испарения придавали воздуху пещеры мягкость
и влажность, благоприятные для растительности. Вода из бассейна вытекала
несколькими ручейками: одни тотчас же с глухим шумом терялись в скалах, другие,
чистые, прозрачные, протекали по пещере и потом исчезали в темных углублениях,
бесконечно расширявших ее пределы.
Как только граф Альберт увидел Консуэло, он пошел ей
навстречу и помог перейти через излучины источника. В более глубоких местах
были переброшены стволы деревьев, в других же выступавшие из воды камни
облегчали переход для привычных ног. Он протягивал ей руку и несколько раз даже
переносил ее. Но на этот раз Консуэло пугал не поток, мрачно и молчаливо
катившийся у ее ног, а этот загадочный проводник, к которому ее влекла
неодолимая симпатия и от которого в то же время отталкивало какое-то не
поддающееся определению чувство. Подойдя к источнику, она увидела на широком
камне в несколько футов вышиной нечто такое, что мало способствовало ее
успокоению. То было четырехугольное сооружение, вроде памятника, какие можно
видеть в катакомбах, искусно сложенное из человеческих костей и черепов. —
Не пугайтесь, — сказал ей Альберт, заметив, что она вздрогнула, это
благородные останки мучеников моей религии, образующие алтарь, перед которым я
люблю размышлять и молиться.
— Какая же у вас религия, Альберт? — наивно и
грустно спросила Консуэло. — Чьи это кости: гуситов или католиков? Разве и
те и другие не были жертвами нечестивой ярости и мучениками веры, одинаково
горячей? Неужели правда, что вы предпочитаете учение гуситов вере ваших
родителей и что реформы, последовавшие за реформами Яна Гуса, кажутся вам
недостаточно строгими и действенными? Скажите, Альберт, чему я должна верить из
всего того, что мне о вас говорили?
— Если вам говорили, что я предпочитаю реформу гуситов
лютеранской, великого Прокопия — мстительному Кальвину, подвиги таборитов —
подвигам солдат Валленштейна, — то это сущая правда, Консуэло. Но что вам
до моих верований? Вы по наитию чувствуете истину и знаете божество лучше, чем
я. Боже упаси, чтобы я привел вас сюда для того, чтобы отяготить вашу чистую душу,
смутить вашу спокойную совесть своими думами и душевными муками! Оставайтесь
такой, какая вы есть, Консуэло! Вы родились благочестивой и святой; более того,
вы
родились в бедности, неизвестности, и ничто не пыталось
затуманить ваш разум, вашу совесть, ваше чувство справедливости. Мы можем, не
препираясь, молиться вместе, вы, знающая все, ничему не учившись, и я, мало
знающий, несмотря на все мои поиски. В каком бы храме вы ни молились, вы всегда
будете обращаться к истинному богу и истинная вера будет гореть в вашей душе.
Итак, не для того, чтобы вас поучать, а для того, чтобы получить через вас
откровение, хотел я соединить наши голоса и мысли перед алтарем, сложенным из
костей моих предков. — Значит, я не ошиблась, приняв эти благородные
останки, как вы их называете, за останки гуситов, сброшенные в колодец
Шрекенштейна кровожадной яростью междоусобицы во времена вашего предка Яна
Жижки, который, как говорят, страшно отомстил за это. Мне также рассказывали,
что после того, как он сжег деревню, он велел засыпать колодец. Мне кажется,
что я вижу на темном своде, прямо над головой, круг из обтесанных камней,
указывающий, что мы с вами как раз под тем местом, где я не раз сиживала,
утомившись искать вас. Скажите, граф Альберт, та ли это скала, которую, как я
слышала, вы окрестили камнем Искупления?
— Да, — ответил Альберт, — это здесь пытки и
чудовищные жестокости освятили место моих молений и алтарь моей скорби. Вы
видите огромные глыбы, нависшие над нашими головами, и вот те, другие, у
источника? Могучие руки таборитов сбросили их сюда по приказу того, кого звали
«Грозным слепцом»; но глыбы эти только отвели воды к подземным руслам, куда они
и пробились. Стенки колодца были разрушены, и, чтобы скрыть развалины, я
посадил эти кипарисы. Но чтобы засыпать совсем эту пещеру, понадобилась бы
целая гора земли. Глыбы, застрявшие вверху колодца, задержались там благодаря
винтовой лестнице, подобной той, по которой вы отважились спуститься в водоем
через мой цветник в замке Великанов. Оседание горных пород с течением времени
все больше и больше сдавливало и сдерживало эти глыбы. Теперь если и случится
незначительному камешку сорваться оттуда, то это бывает только зимой, во время
сильных ночных морозов; вам, как видите, совершенно нечего бояться обвала.
— Вовсе не это заботит меня, Альберт, — возразила
Консуэло, переводя взгляд на мрачный алтарь, куда он положил свою
скрипку. — Я хочу знать, почему вы почитаете память и останки только этих
жертв, как будто не было мучеников и у противной стороны, как будто преступления
одних простительнее преступлений других.
Консуэло сказала это, строго и с недоверием глядя на
Альберта. Она снова вспомнила о Зденко, и все эти вопросы были как бы частью
того дознания высокой судебной инстанции, которому она охотно подвергла бы его,
если бы отважилась на это.
Мучительное волнение вдруг охватило графа, и Консуэло
приняла это за угрызение совести; он схватился руками за голову, потом прижал
их к груди, точно боясь, что она разорвется. Лицо его страшно изменилось, и
девушка испугалась, не догадался ли он об ее подозрении.
— Вы не знаете, какую причиняете мне боль! —
воскликнул он наконец, прислоняясь к алтарю из костей и склоняя голову к этим
высохшим черепам, казалось, смотревшим на него своими пустыми
глазницами. — Нет! Вы не можете этого знать, Консуэло! И ваши холодные
рассуждения будят во мне воспоминания о злополучных днях, пережитых мною. Вы не
знаете, что говорите с человеком, пережившим века страданий, с человеком,
который, послужив слепым орудием непреклонного правосудия божьего, уже получил
награду и понес кару. Я так много страдал, так много пролил слез, так старался
искупить свою жестокую судьбу, столько заглаживал ужасов, которые рок заставлял
меня совершать… я начал наконец надеяться, что смогу забыть обо всем. Забыть!
Этого жаждало мое истерзанное сердце! Это было мольбой, мечтой каждой минуты
моей жизни! Распростертый над этими скелетами, я здесь годами вымаливал
сближения с людьми, примирения с богом! А когда вы пожалели меня, я начал
верить в свое спасение. Взгляните на этот венок из засохших цветов, готовых уже
рассыпаться в прах, — я увенчал им верхний череп моего алтаря. Вы не
узнаете этих цветов; а я не раз оросил их горькими и сладостными слезами: ведь
это вы сорвали и передали их мне через товарища моих страданий, верного обитателя
моей гробницы. И вот, плача и целуя эти цветы, я с тревогой спрашивал себя,
сможете ли вы когда-нибудь почувствовать глубокую, настоящую любовь к такому
преступнику, как я, к такому безжалостному фанатику, бездушному тирану!..
— Но какие же совершили вы преступления? —
спросила, возвысив голос, Консуэло, волнуемая самыми разнообразными чувствами и
став смелее при виде глубокого уныния Альберта. — Если вы хотите сделать
мне какое-то признание, сделайте его здесь, сделайте его сейчас, чтобы я знала,
могу ли я оправдать и полюбить вас.
— Оправдать меня — да, вы можете меня оправдать, ибо
тот Альберт фон Рудольштадт, которого вы знаете, жил чистой жизнью ребенка. Но
тот, кто вам неизвестен, — Ян Жижка, поборник чаши, — был вовлечен
гневом божьим в целый ряд беззаконий!..
Консуэло увидела, какую оплошность сделала она, раздувая
тлевший под пеплом огонь и наводя бедного Альберта на разговор о том, что
составляло предмет его помешательства. Но сейчас не время было разубеждать его
с помощью рассуждении: она попробовала успокоить его, говоря с ним языком его
недуга.
— Довольно, Альберт. Если ваше настоящее существование
было посвящено молитве и раскаянию, вам нечего больше искупать, и господь
прощает Яна Жижку.
— Бог не открывается непосредственно смиренным творениям,
которые ему служат, — отвечал граф, качая головой. — Он унижает или
одобряет их, пользуясь одними для спасения или для наказания других. Мы все
являемся лишь исполнителями его воли, когда, движимые духом милосердия,
пытаемся укорять или утешать наших ближних. Вы, милая девушка, не имеете права
отпускать мне грехи. У самого священника нет этой великой власти, хотя церковь
в своей гордыне и приписывает ее ему. Но вы можете добыть мне господне
прощение, полюбив меня. Ваша любовь может примирить меня с небом и заставить
меня забыть дни, называемые «историей прошлых веков»… Вы можете давать мне
именем всемогущего бога самые торжественные обещания, но я не смогу им
поверить: я буду усматривать в них лишь благородный и великодушный фанатизм.
Положите руку на свое сердце и спросите его, обитает ли в нем мысль обо мне,
наполняет ли его моя любовь, — и если оно ответит «да», это «да» будет
священной формулой отпущения моих грехов, моего искупления, будет тем чудом,
которое даст мне покой, счастье и забвение. Лишь таким образом можете вы быть
жрицей моей религии, и моя душа получит отпущение на небесах, как душа католика
получает отпущение из уст духовника. Скажите, что вы меня любите, —
воскликнул он, страстно порываясь к ней, словно желая схватить ее в свои объятия.
Но она отшатнулась, испугавшись той клятвы, которой он требовал, а он снова
упал на кости алтаря, тяжко стеная.
— Я знал, что она не сможет полюбить меня, —
воскликнул Альберт, — знал, что никогда не буду прощен, что никогда не
забуду тех проклятых дней, когда еще не знал ее!
— Альберт, дорогой Альберт, — проговорила
Консуэло, глубоко потрясенная терзавшим его горем, — имейте мужество
выслушать меня. Вы упрекаете меня, будто я хочу обмануть вас надеждой на чудо,
а между тем вы сами требуете от меня еще большего чуда. Бог, который видит все
и оценивает наши заслуги, может все простить; но такое слабое, ограниченное
существо, как я, — могу ли я понять и принять одним только усилием ума и
преданности такую странную любовь, как ваша? Мне кажется, что это от вас
зависит — внушить мне ту исключительную привязанность, какой вы от меня
требуете и дать которую не в моей власти, особенно когда я еще так мало знаю
вас. Так как мы заговорили с вами мистическим языком религии — меня немного
научили ему в детстве, — то я скажу, что для искупления грехов надо, чтобы
на вас снизошла благодать. А разве вы заслуживаете того подобия искупления,
которого ищете в моей любви? Вы требуете от меня самого чистого, самого
нежного, самого кроткого чувства, а мне кажется, что ваша душа не склонна ни к
нежности, ни к кротости, — в ней гнездятся самые мрачные мысли и вечное
злопамятство.
— Что вы хотите сказать этим, Консуэло? Я не понимаю
вас.
— Я хочу сказать, что вы беспрестанно находитесь во
власти зловещих фантазий, мыслей об убийствах, кровавых видений. Вы плачете над
преступлениями, якобы совершенными вами много веков назад, а между тем
воспоминание о них вам дорого. Вы называете их славными, великими, вы
приписываете их воле божьей и праведному его гневу. Словом, вы одновременно и ужасаетесь
и гордитесь, разыгрывая в своем воображении роль какого-то ангела-истребителя.
Если допустить, что вы действительно были в прошлом мстителем и разрушителем,
то можно подумать, что в вас сохранился инстинкт мщения и разрушения, что в вас
живет склонность, чуть ли не стремление, к этой страшной доле, раз вы все
заглядываете туда, за пределы своей настоящей жизни, и плачете над собой, как
над преступником, приговоренным оставаться таковым и дальше.
— Нет, благодаря милосердию всемогущего отца душ, он
берет их обратно к себе и, восстановив своей любовью, потом возвращает к
деятельной жизни! — вздымая руки к небу, воскликнул Рудольштадт. —
Нет, нет, во мне не сохранился инстинкт насилия и жестокости! Довольно с меня и
того, что я был обречен пройти огнем и мечом через те варварские времена,
которые мы на нашем фанатическом и дерзком языке зовем «эпохой рвения и
ярости». Но вы несведущи в истории, божье дитя, вы не понимаете прошлого; и
судьбы народов, в которых вам всегда, должно быть, выпадала миссия мира, роль
ангела-утешителя, загадочны для вас. А вам надо ознакомиться с этими ужасающими
истинами, чтобы иметь представление о том, что порой повелевает праведный бог
злосчастным людям.
— Говорите же, Альберт! Объясните мне, что могло быть
такого важного и священного в бесплодных распрях о причащении, чтобы народы
стали убивать друг друга во имя божественной евхаристии?
— Вы правы, называя ее божественной, — ответил
Альберт, садясь у источника рядом с Консуэло. — Это подобие равенства, это
таинство, установленное существом наивысшим среди людей с целью увековечить
принцип братства, достойно того, чтобы вы, равная самым могущественным и
благородным представителям человечества, назвали его божественным! А между тем
существуют еще тщеславные безумцы, которые считают вас ниже себя, считают кровь
вашу менее драгоценной, чем кровь земных королей и князей! Что подумали бы вы
обо мне, Консуэло, если бы я, потому только, что веду свой род от этих самых
королей и князей, вообразил себя выше вас?
— Я простила бы вам этот предрассудок, священный для
всей вашей касты; восставать против него мне никогда не приходило в голову, и я
счастлива, что родилась свободной и равной маленьким людям, которых я люблю
гораздо больше, чем великих мира сего.
— Быть может, Консуэло, вы простили бы мне, «но вы бы
меня не уважали. Оставаясь здесь с глазу на глаз со мной, человеком, обожающим
вас, вы не чувствовали бы себя так покойно, как теперь, когда вы уверены, что
для меня вы так же священны, как если бы были по праву рождения провозглашены
императрицей Германии. О, позвольте мне думать, что божественную жалость,
заставившую вас тогда, в первый раз, прийти сюда, вы почувствовали только
потому, что знали мой характер и мои принципы! Итак, дорогая сестра, признайте
же в своем сердце (я обращаюсь к нему, не желая утомлять ваш мозг философскими
рассуждениями), что равенство священно, что это воля отца людей и что долг
людей — стремиться установить это равенство. Когда народы были горячо
привержены обрядности своей религии, для них в причащении заключалось все
равенство, каким только дозволяли пользоваться законы, установленные обществом.
Бедные и слабые находили в нем утешение: оно помогало им переносить тяготы
жизни, давая надежду, что впоследствии их потомкам будет лучше; богемцы всегда
хотели соблюдать обряд евхаристии в том виде, в каком его проповедовали и
выполняли апостолы. То было поистине древнее братское единение, трапеза
равенства, отображение царства божия, которое должно было осуществиться на
земле. В один прекрасный день римская церковь, подчинившая народы и царей своей
деспотической и честолюбивой власти, пожелала отделить христианина от
священника, народ от духовенства. Она отдала чашу в руки своих служителей, дабы
те скрыли божество в таинственных ковчегах; и вот эти священнослужители путем
своих бессмысленных толкований превратили причащение в какой-то языческий
культ, в котором миряне могли участвовать не иначе, как с их,
священнослужителей, соизволения. Они захватили ключи от совести людской, сделав
исповедь тайной; и святая чаша, та славная чаша, к которой бедняк шел утолять и
обновлять свою душу, исчезла в шкатулке из кедрового дерева, разукрашенной
золотом, откуда причастие извлекали только для того, чтобы приблизить его к
устам священника. Он один стал достоин вкушать от крови и слез Христа.
Смиренный верующий должен был, став на колени, лизать его руку, чтобы вкусить
хлеб ангелов. Теперь вы понимаете, почему народ закричал в один голос: „Чашу,
верните нам чашу! Чашу для простого народа, чашу для детей, женщин, грешников и
безумных! Чашу для всех нищих, всех убогих и телом и душой!“ Таков был крик
возмущения, соединивший в одно целое всю Богемию. Остальное вам известно,
Консуэло. Вы уже знаете, что к этой первоначальной идее, отражавшей в
религиозном символе всю радость, все благородные искания гордого и
великодушного народа, присоединились, как следствие преследований и страшной
борьбы с соседними народами, еще идеи свободы отечества и национальной чести.
Завоевание чаши повлекло за собой другие благороднейшие завоевания и создало
новое общество. Если же история, написанная невежественными или скептически
настроенными людьми, расскажет вам, будто только жажда крови и алчность к
золоту разожгли эти злополучные войны, не верьте: это ложь перед богом и
людьми! Правда, личная злоба и честолюбие пятнали порою подвиги наших предков,
но то был все тот же извечный дух властолюбия и жадности, постоянно грызущий
богатых и знатных. Они, и только они, позорили святое дело и десятки раз
изменяли ему. Народ — грубый, но искренний, фанатичный, вдохновенный —
объединился в секты, поэтические названия которых вам известны: табориты,
оребиты, сироты, союзные братья. Этот народ — мученик своей веры — бежал в
горы, где соблюдал со всей суровостью закон дележа и полнейшего равенства,
верил в вечную жизнь душ, воплощающихся в обитателях земного мира, ждал
пришествия и торжества Христа, воскресения Яна Гуса, Яна Жижки, Прокопа Лысого
и всех непобедимых вождей, проповедовавших свободу и служивших ей. Такое
верование не кажется мне вымыслом, Консуэло. Наша роль на земле не так коротка,
как принято думать, и обязанности наши не кончаются со смертью. Что же касается
желания капеллана, а быть может, и моих добрых, но слабых родных приписывать
мне узкое и ребяческое увлечение гуситским культом, то, хоть я действительно в
дни своего болезненного возбуждения как будто смешивал символ с принципом и
образ с идеей, не презирайте меня слишком за это, Консуэло. В глубине души я
никогда не думал воскрешать эти забытые обряды, не имеющие смысла в наши дни.
Иные образы и иные символы нужны были бы для нынешних просвещенных людей, если
бы только они согласились раскрыть глаза и если б иго рабства не препятствовало
народам искать религию свободы. Слишком строго и лживо перетолковывались мои
симпатии, вкусы и привычки. Устав от бесплодных и суетных идей людей нашего
века, я ощутил потребность укрепить свое соболезнующее сердце общением с людьми
простодушными или несчастными. Мне нравилось разговаривать со всеми этими
бродягами, юродивыми, со всеми обездоленными, лишенными земных благ и любви
своих ближних; я открывал иногда в наивном бреде тех, кого называют
помешанными, мимолетные, но поразительные проблески божественной мысли. Мне
приходилось также, выслушивая признания так называемых „отверженных“ и
преступников, рассказывавших о своем раскаянии и угрызениях совести,
наталкиваться на глубокие, хотя и не всегда чистые следы их справедливости и
невиновности. И вот, видя меня сидящим за столом у невежды или у изголовья
разбойника, добрые люди заключили, что я еретик и даже колдун! Что я могу
ответить на такие обвинения? Когда же я, потрясенный чтением истории своей
родины и размышлениями над ней, не сдерживаясь говорил вещи, похожие на бред
(быть может, они и были бредом), меня стали бояться, принимая за безумца,
одержимого дьяволом… Дьявол! А знаете ли вы, Консуэло, что это такое?
Рассказать вам об этой таинственной аллегории, созданной священнослужителями
всех религий?
— Да, друг мой, — сказала Консуэло, успокоенная и
почти убежденная, забыв свою руку в руке Альберта. — Объясните мне, что
такое сатана. Сказать правду, хотя я не переставала верить в бога и никогда
открыто не восставала против того, чему меня учили о нем, я все-таки никогда не
верила в дьявола. Если бы он действительно существовал, то бог заковал бы его в
цени так далеко от себя и от нас, что мы ничего и не узнали бы о Нем. —
Если бы он существовал, — отвечал Альберт, — то мог бы быть лишь
чудовищным созданием того бога, существование которого самые нечестивые софисты
предпочитали уж лучше отрицать, лишь бы не быть вынужденными признавать его за
тип и идеал всяческого совершенства, знания и любви. Как могло совершенство
породить зло, знание — ложь, любовь — ненависть и развращенность? Эту сказку
надо отнести к поре детства рода человеческого, когда бедствия и страдания в
мире физическом заставили трусливых детей земли думать, будто есть два бога,
два высших и созидающих духа: один — источник всех благ, а другой — всех зол;
два начала, почти одинаковые, ибо царство Эблиса должно было существовать
неисчислимый ряд веков и пасть лишь после ужасающих боев в сферах Эмпирея. Но
почему же после проповеди Христа и чистого евангельского света духовенство
осмелилось воскресить и утвердить в умах народов это грубое верование их
древних предков? Потому что, вследствие неудовлетворительного или неправильного
толкования апостольского учения, понятие о добре и зле оставалось смутным и
незаконченным для человеческого ума. Был введен и освящен принцип полного
разделения прав и назначения духа и плоти, прерогатив духовной и светской власти.
Христианский аскетизм возвышал душу и клеймил позором тело. Так как мало-помалу
фанатизм довел до крайности это осуждение телесной жизни, а в обществе,
несмотря на учение Христа, уцелел древний порядок деления на касты, небольшая
группа людей продолжала жить и господствовать с помощью разума, в то время как
огромное большинство прозябало во мраке суеверия. Просвещенные и могущественные
касты, особенно духовенство, стали тогда душою общества, народ же оставался
только его телом. Кто же был истинным покровителем разумных существ? Бог. А
неразумных? Дьявол. Ибо бог давал жизнь душе и возбранял жизнь чувственную, к
которой сатана постоянно влечет людей слабых и грубых. Одна из таинственных и
странных сект возмечтала, как и многие другие, восстановить право плоти и
воссоединить в одном общем божественном начале эти два произвольно разделенных
начала. Секта эта хотела утвердить любовь, равенство и общность имущества, как
основу человеческого счастья. Это была справедливая и святая идея. Нужды нет,
что при этом бывали крайности и злоупотребления. Секта эта стремилась вывести
из уничижения так называемое злое начало и, наоборот, сделать из него служителя
и движущую силу доброго начала. Таким образом, эти философы отпустили сатане
его прегрешения, и он был восстановлен в сонме небесных духов. Поэтическими
истолкованиями они постарались превратить архангела Михаила и его воинство в
угнетателей и узурпаторов славы и могущества, осуждая в их лице
первосвященников и князей церкви, оттеснивших к вымыслам об аде религию равенства
и основы счастия человеческого рода. Итак, мрачный и скорбный Люцифер вышел из
бездны, где он, скованный, подобно божественному Прометею, стонал столько
веков. Его освободители все же не дерзали открыто взывать к нему, но
посредством таинственных и загадочных формул выразили идею его апофеоза и
будущего царствования над человечеством, которое было слишком долго развенчано,
унижено и оклеветано, как и он сам. Боюсь, однако, что я утомил вас своими
объяснениями. Простите меня, дорогая Консуэло. Но вам изобразили меня
антихристом и поклонником демона, и мне хотелось оправдаться перед вами и
доказать, что я менее суеверен, чем те, кто меня обвиняет.
— Вы нисколько не утомили меня, — ответила, кротко
улыбаясь, Консуэло, — и я очень рада узнать, что не вступила в союз с
врагом рода человеческого, прибегнув однажды ночью к приветствию
лоллардов. — Вы, оказывается, очень осведомлены по этой части, —
заметил Альберт и снова принялся объяснять ей возвышенный смысл тех великих
истин, называемых еретическими, которые были погребены под недобросовестными
обвинениями и приговорами софистов католицизма. Все более и более
воодушевляясь, он рассказал ей о своих исследованиях, размышлениях, мрачных
фантазиях, которые довели его самого до аскетизма и суеверия во времена,
казавшиеся ему более далекими, чем они были на самом деле. Стараясь сделать
свою исповедь как можно более удобопонятной и простой, он достиг удивительной
ясности ума, говорил о себе с такой искренностью, с таким беспристрастием, как
будто о. дело шло о другом человеке, и касался слабостей и болезненных явлений
своего рассудка так, как будто давно излечился от этих опасных припадков. Он
излагал свои мысли с такой рассудительностью, что, отбросив вопрос о времени,
представление о котором, видимо, было утеряно для него (он каялся, например, в
том, что когда-то воображал себя Яном Жижкой, Вратиславом, Подебрадом и другими
героями минувшего, совершенно забывая, что за полчаса перед тем впадал в такое
же заблуждение), Консуэло не могла не видеть в нем человека выдающегося и
просвещенного; никто из тех, с кем ей приходилось встречаться до сих пор, не
высказывал более великодушных, а следовательно, и более справедливых взглядов.
Мало-помалу внимание и интерес, сверкавшие в глазах молодой девушки, ее
сообразительность, поразительная способность усваивать отвлеченные идеи так
воодушевили Рудольштадта, что речь его зазвучала еще убедительнее, еще ярче.
Консуэло, после нескольких вопросов и возражений, на которые он сумел удачно
ответить, уже не думала об удовлетворении своей природной любознательности, а
только пребывала в каком-то восторженном удивлении, которое внушал ей Альберт.
Она забыла все тревоги, пережитые за этот день: и Андзолето, и Зденко, и кости
мертвецов, лежавшие перед ее глазами. Какие-то чары завладели ею: живописное
место, где она находилась, эти кипарисы, страшные скалы и мрачный алтарь
показались ей при дрожащем свете факелов каким-то подобием волшебного Элизиума,
где блуждали священные и величественные видения. Хотя она и бодрствовала, но ее
рассудок, подвергшийся напряжению, слишком сильному для ее поэтической натуры,
был как бы усыплен. Уже не слушая того, что говорил Альберт, она погрузилась в
сладостный экстаз, умиляясь при мысли о сатане, которого он только что
изобразил как великую, непризнанную идею, а ее артистическое воображение
нарисовало его в виде красивого, страдальческого, бледного образа, родного
брата Христа, склонившегося над нею, дочерью народа, отверженным ребенком
мировой семьи. Вдруг она заметила, что Альберта уже нет подле нее, что он
больше не держит ее руки, перестал говорить, а стоит в двух шагах у алтаря и
играет на своей скрипке мелодию, которая однажды так поразила и очаровала ее.
|


