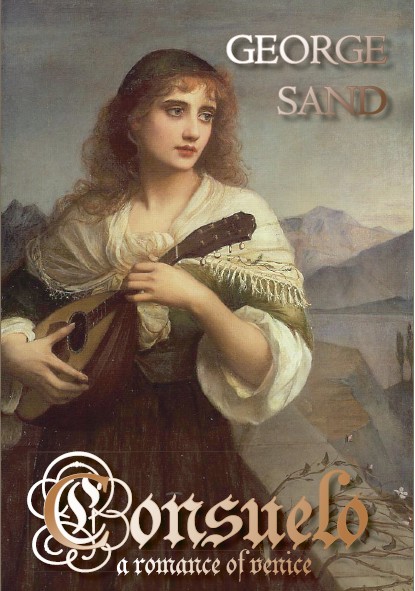
 Увеличить Увеличить |
Глава 92
Консуэло рассказала Порпоре только то, что ему надлежало
знать, не распространяясь о причинах, навлекших на нашу героиню немилость
Марии-Терезии. Остальное огорчило бы маэстро, обеспокоило бы и, пожалуй,
вооружило бы против Гайдна, ничего при этом не исправив. Не хотела Консуэло
также говорить и своему юному другу о том, о чем умолчала перед Порпорой. Она
не без основания пренебрегла теми неопределенными обвинениями, которые, видимо,
были переданы императрице двумя-тремя недоброжелателями и не получили в
обществе никакого отклика. Корнеру же Консуэло нашла нужным все рассказать. Он
посмотрел на дело так же, как она, и, чтобы злоба не могла взрастить эти семена
клеветы, принял очень разумные и великодушные меры: посланник уговорил Порпору
переехать вместе с Консуэло в его дворец, а Гайдн поступил на службу в
посольство в качестве одного из секретарей. Таким образом старый маэстро
избавлялся от нужды, Иосиф продолжал оказывать ему кое-какие личные услуги, что
давало ему возможность часто видеться с учителем и брать у него уроки, а
Консуэло была ограждена от злобных обвинений.
Несмотря на эти предосторожности, не Консуэло, а Корилла
была приглашена на императорскую сцену. Консуэло не сумела понравиться
Марии-Терезии. Великая королева, забавляясь закулисными интригами, о которых ей
рассказывали Кауниц и Метастазио, изощряясь в изящном остроумии, желала играть
роль олицетворенного венценосного провидения для своих актеров, а те
разыгрывали перед нею кающихся грешников и демонов, обращенных на путь
истинный. Само собой разумеется, что в числе этих лицемеров, получавших за свое
мнимое благочестие маленькие пенсии и мелкие подачки, не было ни Кафариэлло, ни
Фаринелли, ни Тези, ни г-жи Гассе, короче говоря — никого из великих виртуозов,
которыми поочередно наслаждалась Вена: этим многое прощалось за их талант и
известность. Второстепенных же мест в театрах обыкновенно добивались люди,
старавшиеся подладиться под ханжеские и назидательные прихоти императрицы. И ее
величество, вносившая во все дух политической интриги, поднимала
дипломатическую суетню по поводу брака и обращения кого-либо из них. Из
«Мемуаров» Фавара (интереснейшего романа, действительно разыгравшегося за
кулисами) видно, насколько трудно было посылать в Вену певцов и оперных актрис,
поставка которых была поручена автору. Их хотели заполучить по дешевой цене и
требовали к тому же, чтобы они были целомудренны, как весталки. Мне кажется,
этому привилегированному остроумному поставщику Марии-Терезии после усердных
поисков так-таки и не удалось найти в Париже ни одной подходящей кандидатки;
правда, это делает больше чести искренности, чем добродетели наших «оперных
девиц», как их тогда называли.
Итак, Марии-Терезии хотелось, чтобы развлечения в ее империи
носили поучительный характер, достойный ее добродетельного величия. Монархи
всегда играют комедию, а великие монархи, быть может, больше чем другие.
Порпора это беспрестанно утверждал, и он не ошибался. Великая императрица, ярая
католичка, примерная мать, без всякого отвращения разговаривала с проституткой,
наставляла ее, вызывала на необычайные признания, и все это ради того, чтобы
привести кающуюся Магдалину к стопам Спасителя. Личная шкатулка ее величества —
посредница между грехом и раскаянием — была в руках императрицы верным и
чудодейственным средством для спасения многих заблудших душ. И Корилла,
плачущая и поверженная к ее ногам, если не фактически (я сомневаюсь, чтобы она
могла переломить свою необузданную натуру для такой комедии), то в докладах
императрице г-на Кауница, ручавшегося за эту новоиспеченную добродетель, должна
была неминуемо взять верх над такой решительной, гордой и мужественной
девушкой, как непорочная Консуэло. Мария-Терезия ценила в своих театральных
любимцах лишь ту добродетель, творцом которой считала одну себя. Добродетель
же, развивавшаяся или сохранившаяся сама по себе, мало ее интересовала.
Императрица не верила в нее, хотя ее собственная добродетель и должна была
пробуждать в ней такую веру. Наконец, манера Консуэло держать себя задела ее:
императрица сочла ее вольнодумкой и резонеркой. Zingarella проявила слишком
много самонадеянности и заносчивости, претендуя на уважение и признание ее
нравственности без вмешательства императрицы. Когда Кауниц, притворявшийся беспристрастным,
но в то же время вредивший Консуэло в пользу Кориллы, спросил ее величество,
соблаговолила ли она принять просьбу «этой девочки», Мария-Терезия ответила:
«Мне не понравились ее убеждения. Больше не говорите мне о ней». И этим все
было сказано. Голос, лицо, само имя Порпорины были совершенно забыты.
С первого же слова Порпора ясно понял причину немилости, в
которую впал. Консуэло была вынуждена ему сказать, что императрица считает
невозможным ее поступление на императорскую сцену из-за того, что она
незамужняя.
— А Корилла? — воскликнул Порпора, узнав о ее
принятии на сцену. Разве императрица уже успела выдать ее замуж?
— Насколько я могла понять или догадаться из слов ее
величества, Корилла слывет здесь вдовой.
— О да, конечно, трижды вдова! Десять раз! Сто раз
вдова! — воскликнул Порпора с горьким смехом. — Но что скажут, когда
узнают правду и будут свидетелями новых бесчисленных случаев ее вдовства? А
ребенок, которого, как я слышал, она оставила под Веной у одного каноника? Она
хотела приписать младенца графу Дзустиньяни, а тот посоветовал ей препоручить
его отеческим ласкам Андзолето! Ну и потешится она с товарищами, рассказывая им
об этом с присущим ей цинизмом, и нахохочется в тиши своей спальни над тем, как
ловко провела императрицу!
— Но если императрица узнает правду?
— Императрица не узнает. Монархи, кажется мне, окружены
ушами, которые служат как бы преддверием к их собственным ушам. Многое не
доходит до императорского слуха, в их святилище проникает лишь то, что эти
стражи пожелают пропустить. К тому же, — добавил Порпора, — у нее
всегда останется в запасе покаяние, а господину Кауницу будет поручено следить
за выполнением наложенной на нее эпитимии.
Бедный маэстро изливал свою желчь в этих язвительных шутках,
но был глубоко опечален. Он терял надежду на постановку своей новой оперы, тем
более что либретто к ней писал не Метастазио, этот присяжный пиит придворной
поэзии. Порпора, видно, догадывался, что Консуэло не проявила достаточной
ловкости, не сумела заслужить милости императрицы, и высказал ей по этому
поводу свое неудовольствие. К довершению несчастья, заметив однажды, как
восторгается и гордится Порпора быстрыми успехами, достигнутыми под его
руководством Иосифом Гайдном, венецианский посланник имел неосторожность
открыть маэстро правду относительно юноши и показать первые прелестные опыты
музыкального творчества его ученика, начинавшие ходить по рукам и обратившие
уже на себя внимание любителей музыки. Тут маэстро раскричался, что его
обманули, и пришел в неистовую ярость. К счастью, он не обвинил Консуэло в
соучастии в этой хитрости, а г-н Корнер, видя, какую вызвал бурю, поспешил
искусной ложью пресечь в старике всякое подозрение на этот счет. Но он не мог
помешать изгнанию Иосифа на несколько дней из комнаты учителя, и понадобилось
все влияние Корнера, обусловленное его покровительством старику и оказанными им
услугами, чтобы маэстро смилостивился над юношей. Однако Порпора долго не мог
забыть обмана и, говорят, находил удовольствие в том, что заставлял Иосифа
оплачивать уроки унизительной лакейской службой, в данном случае совершенно
ненужной, раз к его услугам были посольские лакеи. Гайдн не унывал и кротостью,
терпением и преданностью в конце концов обезоружил своего сурового учителя;
всегда прилежный и внимательный на уроках, Иосиф получил от него все, что хотел
и мог воспринять, к тому же и Консуэло постоянно подбадривала и наставляла
юношу.
Но гениальный Гайдн мечтал об иных музыкальных путях, чем
те, по каким шли его предшественники композиторы; будущий отец симфонии поверял
Консуэло свои мечты об инструментальной партитуре огромных масштабов. Эти
масштабы, кажущиеся нам теперь такими естественными, несложными и скромными,
сто лет тому назад могли почитаться утопией безумца или же началом новой эры,
возвещенной гением. Иосиф еще сомневался в себе и не без ужаса делился
потихоньку с Консуэло своими честолюбивыми замыслами. Сначала они немного
пугали и Консуэло. До сих пор инструментовка играла второстепенную роль и,
отделенная от человеческого голоса, отличалась простотою приемов. Однако в юном
товарище певицы было столько спокойствия, столько неизменной мягкости, в его
убеждениях чувствовалась такая подлинная скромность и такое безусловно
добросовестное стремление к истине, что Консуэло не могла считать его
самонадеянным, верила в его мудрость и решила поддерживать в его начинаниях.
Именно в ту пору Гайдн написал серенаду для трех
инструментов и с двумя своими друзьями исполнял ее под окнами «любителей»,
желая заинтересовать их своими произведениями. Начал он с Порпоры, старый
маэстро, не зная ни имени автора, ни исполнителей, подошел к окну, с
удовольствием слушал и бурно аплодировал. На этот раз посланник, посвященный в
тайну и также слушавший серенаду, оказался осторожнее и не выдал молодого
композитора. Порпора не желал, чтобы ученики, бравшие у него уроки пения,
отвлекались чем-либо иным.
В это же самое время Порпора получил письмо от своего
ученика, великолепного контральтиста Уберто, носившего имя Порпорино и
состоявшего на службе у Фридриха Великого. Этот знаменитый артист не был, как
другие ученики профессора, чрезмерно ослеплен собственным успехом и не забыл,
чем обязан своему учителю. Порпорино никогда не стремился изменить то, что
приобрел, — манеру петь звучно и свободно, без фиоритур, придерживаясь
разумных традиций маэстро, — и это неизменно обеспечивало ему успех.
Особенно хорошо удавались ему адажио. Порпора питал к своему бывшему ученику
слабость, которую ему с трудом удавалось скрывать перед фанатическими
поклонниками Фаринелли и Кафариэлло. Маэстро соглашался, что искусство, блеск и
гибкость голоса этих великих виртуозов изумительны и сразу возбуждают большой
восторг у слушателей, падких на все необыкновенное. Но под сурдинку он говорил,
что его Порпорино ни за что не станет потворствовать дурным вкусам и хотя поет
всегда одним и тем же способом, но голос его не может надоесть. И, по-видимому,
в Пруссии пение Порпорино действительно вызывало непреходящий восторг, ибо он
блистал там в течение всей своей музыкальной карьеры и умер в преклонных годах,
прожив в этой стране более сорока лет.
В своем письме Уберто сообщал, что произведения Порпоры
пользуются большим успехом в Берлине, и если бы учитель захотел приехать к
нему, его новые оперы будут приняты и поставлены на тамошней сцене, — он в
этом уверен. Он очень убеждал Порпору покинуть Вену, где артисты обречены на
постоянные интриги разных партий; в то же время он просил «завербовать» для
прусского двора выдающуюся певицу, которая смогла бы вместе с ним исполнять
оперы маэстро. Порпорино с большой похвалой отзывался о просвещенном вкусе
своего короля и о почетном покровительстве, какое тот оказывает музыкантам.
«Если этот план Вам улыбается, — писал он в конце письма, — скорее
отвечайте мне и сообщите свои условия. Ручаюсь, что через три месяца я доставлю
Вам службу, которая даст Вам наконец спокойное существование. Что касается
славы, дорогой учитель, то достаточно нам будет спеть написанное Вами так,
чтобы Вас оценили, и, надеюсь, слух об этом дойдет до Дрездена».
Последняя фраза заставила Порпору навострить уши, как старую
боевую лошадь: то был намек на успех Гассе и его певцов при саксонском дворе.
Мысль добиться такой же славы, как у его соперника на севере Германии,
улыбалась маэстро, к тому же в данную минуту он питал жгучую злобу к Вене,
венцам и их двору, — поэтому без всяких колебаний он ответил Порпорино,
уполномочивая его на хлопоты в Берлине. Он сообщил ему свои условия, стараясь
быть как можно скромнее, дабы не потерпеть неудачи. О Порпорине маэстро
отозвался в письме с самой большой похвалой и подчеркнул, что она не только по
имени, но и по образованию, и по таланту, и по сердцу может считаться истинной
сестрой Порпорино. Ангажемент ей он просил устроить на наилучших условиях. Все
было сделано без ведома Консуэло, — она узнала об этом уже после того, как
маэстро отправил письмо. Само слово «Пруссия» напугало бедную девушку, а имя
великого Фридриха привело в содрогание. Со времени приключения с дезертиром
Консуэло представляла себе этого столь прославленного монарха не иначе как в
образе людоеда и вампира. Порпора очень бранил ее: она проявила, по его мнению,
слишком мало радости, узнав о возможности нового ангажемента, а так как
Консуэло не могла рассказать об истории Карла и о подвигах господина Мейера,
то, опустив голову, предоставила учителю журить ее. Однако, подумав, она нашла
в новом проекте некоторое облегчение: благодаря ему откладывалось ее
возвращение на сцену, так как дело могло еще провалиться, да и Порпорино
требовалось по крайней мере три месяца на устройство его. До тех пор она могла
мечтать о любви графа Альберта и разобраться в своих чувствах к нему, могла
честно и искренне выполнить взятое на себя обязательство — обдумать тщательно и
без принуждения, хочет ли она выходить за него замуж, или считает брак с ним
невозможным. Консуэло решила, прежде чем сообщать что-либо хозяевам замка
Великанов, обождать ответа графа Христиана на свое первое письмо. Но ответа все
не было, и Консуэло начала думать, что старый Рудольштадт поставил крест на
этом неравном браке и постарался уговорить Альберта отказаться от него, как
вдруг Келлер передал ей украдкой короткое письмецо такого содержания:
«Вы обещали мне писать и сделали это косвенно, сообщив моему
отцу о своем затруднительном положении. Вижу, что над Вами тяготеет иго, но я
счел бы преступным для себя избавить Вас от него; по-видимому, добрый мой отец
боится для меня последствий Вашего подчинения Порпоре. Но раз Вы пишете моему
отцу, с каким сожалением и ужасом относитесь к принуждению принять то или иное
решение, — я ничего теперь не боюсь: это доказывает, что Вам не легко
произнести приговор, который обрек бы меня на вечное отчаяние. Да, Вы сдержите
слово и попробуете полюбить меня! Не все ли мне равно, где Вы и чем заняты,
какое положение создает Вам в обществе призрачная слава, не все ли равно, как долго
и в силу каких препятствий я буду вдали от Вас, если в сердце моем живет
надежда и Вы позволяете мне надеяться! Несомненно, я очень страдаю, но я в
состоянии еще больше страдать, не падая духом, пока Вы не погасили во мне искры
надежды.
Я жду и умею ждать! Не бойтесь напугать меня, замедлив с
ответом. Не пишите мне под влиянием страха или жалости — я не хочу ничем быть
им обязан. Взвесьте мою судьбу в своем сердце и мою душу в своей душе, а когда
настанет время и Вы будете уверены в себе, будь то в келье монахини или на
подмостках театра, если Вы велите мне никогда не беспокоить Вас или явиться к
Вам… я, по Вашему желанию, буду у Ваших ног или замолчу навсегда.
Альберт».
— Благородный Альберт! — воскликнула Консуэло,
целуя письмо. — Чувствую, что люблю тебя, да и невозможно было бы не
любить! И без колебаний сознаюсь тебе в этом. Своим обещанием я вознагражу
постоянство и самоотверженность твоей любви.
Она тут же принялась было за письмо, но, услышав голос
Порпоры, поспешно спрятала на груди и письмо Альберта и начатый ему ответ. В
течение всего дня она не смогла выбрать ни одной свободной минуты, ни одного
укромного местечка. Казалось, угрюмый старик догадался об ее желании остаться
наедине и задался целью помешать ей. Когда наступила ночь, Консуэло немного
успокоилась и поняла, что такое важное решение требовало более продолжительной
проверки своих чувств. Не следовало подавать Альберту надежды, которая могла и
не осуществиться. Сотню раз перечла она письмо молодого графа и увидала, что он
равно боится как горестного отказа, так и поспешного обещания. Консуэло решила
обдумать ответ в течение нескольких дней. Казалось, сам Альберт этого требовал.
Жизнь Консуэло в то время в посольстве протекала очень
спокойно и размеренно. Чтобы не давать повода злобным наветам, Корнер с
присущей ему деликатностью никогда не появлялся в ее комнате и никогда не
приглашал ее, даже вместе с Порпорой, к себе. Встречался он с нею только у
Вильгельмины, где Консуэло охотно пела в интимном кругу и где посланник мог
говорить с нею, не компрометируя ее. Иосиф также был принят в салоне
Вильгельмины в качестве музыканта. Кафариэлло бывал там часто, граф Годиц
иногда, а аббат Метастазио изредка. Все трое очень скорбели о неудаче Консуэло,
но ни один не имел ни мужества, ни настойчивости отстоять ее. Порпора
возмущался и с трудом скрывал это. Консуэло старалась смягчить его и убедить
относиться снисходительно к людским недостаткам и слабостям. Она побуждала его
работать, и благодаря ей в душе маэстро время от времени мерцали проблески надежды
и энтузиазма. Девушка поддерживала в нем раздражение против светского общества,
и он не стал возить ее туда петь. Она радовалась, что о ней забыли великие мира
сего, вызывавшие в ней ужас и отвращение, серьезно занималась, предавалась
сладким мечтам и ухаживала за своим старым учителем, а ее дружба с Гайдном
приобрела теперь спокойный, безмятежный характер. И если природа не создала ее
для жизни тихой и уравновешенной, говорила себе ежедневно Консуэло, то еще
меньше она была приспособлена для волнений, порождаемых тщеславием, и для
деятельности, основанной на честолюбии. Правда, она мечтала раньше и теперь
продолжала мечтать о жизни более кипучей, о радостях любви более пылких, о
более широком умственном кругозоре. Но мир искусства, рисовавшийся ее воображению
таким чистым, таким открытым и благородным, оказался до того омерзительным, что
она предпочла жизнь безвестную и замкнутую, теплые дружеские отношения и работу
в одиночестве. Консуэло не приходилось вновь обдумывать предложение
Рудольштадтов. Их великодушие, нерушимая любовь сына, снисходительное чувство
отца не вызывали никаких сомнений. Ей не нужно было обращаться ни к своему уму,
ни к совести — они говорили в пользу Альберта. На этот раз без всяких усилий
она восторжествовала над воспоминаниями об Андзолето. Победа над любовью дает
силы для других побед, и Консуэло не боялась больше соблазна, ей не опасны были
никакие чары. И все же страсть к Альберту не разгоралась в ее душе с
достаточным пылом. В глубине ее сердца жило в таинственном спокойствии
представление о совершенной любви, и надо было еще и еще вопрошать его… Сидя у
окна, простодушная девушка часто смотрела на проходящих мимо городских молодых
людей — молодцеватых студентов, благородных вельмож, меланхолических артистов,
гордых всадников, — и всех подвергала она целомудренному и по-детски
серьезному разбору. «Посмотрим, — говорила она себе, — насколько
своенравно и легкомысленно мое сердце. Способна ли я влюбиться вдруг, безумно и
неудержимо, с первого взгляда, как многие из моих школьных подруг, хваставшие
этим или исповедовавшиеся друг перед другом в моем присутствии? Неужели правда,
что любовь — волшебная молния, поражающая наше существо, неужели она отрывает
нас от спокойного неведения или от привязанностей, в которых мы поклялись? Способен
ли взгляд хоть одного из этих мужчин, иногда поднимающих свои взоры к моему
окну, взволновать и очаровать меня? Вот хотя бы этот рослый человек с
горделивой походкой, неужели он благороднее и красивее Альберта? А тот, другой,
с красивыми волосами, в изящном костюме, разве заслоняет во мне образ моего
жениха? Наконец, хотела бы я оказаться на месте вон той разодетой дамы, едущей
в своей коляске вместе с надменным господином, который держит ее веер и подает
ей перчатки? Разве что-либо вызывает во мне дрожь, краску, трепет или мечты?
Нет!.. Право же, нет! Говори, мое сердце, выскажись, — вопрошаю тебя и даю
тебе свободу. Увы! Я едва знаю тебя. С минуты рождения у меня было так мало
времени заняться тобой. Я не приучила тебя к искушению, предоставляла свою жизнь
твоей власти, не разбирая, насколько благоразумны твои порывы. Тебя разбили,
мое бедное сердце, а теперь, когда сознание одержало победу над тобой, ты не
смеешь жить, ты не умеешь ответить. Говори же, проснись и выбирай! А, ты все
остаешься спокойным и ничего не хочешь? — Нет, ничего! — Тебе больше
не нужен Андзолето? — Нет, не нужен! — Тогда, значит, ты призываешь
Альберта? Мне кажется, ты говоришь „да“!» И Консуэло ежедневно отходила от
окна, бодро улыбаясь, с кротким и мягким блеском в глазах.
Спустя месяц, чувствуя себя совершенно спокойной, она
ответила Альберту не спеша, чуть ли не щупая пульс при написании каждой буквы:
«Я люблю только Вас и почти уверена, что Вас люблю. Дайте
мне помечтать о возможности нашего брака. Мечтайте и Вы о нем. Найдемте вместе
способ не огорчать ни Вашего отца, ни моего учителя и будем счастливы, не
становясь эгоистами».
К этой записке она присоединила коротенькое письмо графу
Христиану, где рассказала ему, какую ведет спокойную жизнь, и сообщала о
передышке, создавшейся вследствие новых планов Порпоры. Она просила старого
графа найти способ обезоружить маэстро и сообщить ей об этом через месяц. Таким
образом, до выяснения дела, затеянного в Берлине, ей остается еще целый месяц,
чтобы подготовить Порпору.
Консуэло, запечатав оба письма, положила их на стол и
заснула. Чудесный покой снизошел на ее душу, давно она не спала таким крепким,
безмятежным сном. Проснулась она поздно и поспешила встать, чтобы повидаться с
Келлером, обещавшим прийти в восемь часов за письмом. А было уже девять.
Консуэло принялась поспешно одеваться и вдруг с ужасом увидела, что письма на
том месте, куда она его положила, нет. Всюду искала она его и не находила;
наконец вышла посмотреть, не ждет ли ее Келлер в передней, но ни Келлера, ни
Иосифа там не было. Возвращаясь к себе, чтобы снова приняться за поиски письма,
она увидела приближавшегося Порпору, который строго смотрел на нее.
— Что ты ищешь? — спросил он.
— Я потеряла листок.
— Ты лжешь: ты ищешь письмо.
— Маэстро…
— Замолчи, Консуэло! Ты еще не умеешь лгать, не учись
этому.
— Маэстро, что ты сделал с письмом?
— Я передал его Келлеру.
— А почему?.. Почему ты его передал Келлеру?
— Да потому что он за ним пришел. Ведь ты ему приказала
вчера. Не умеешь ты притворяться, Консуэло, или у меня тоньше слух, чем ты
думаешь.
— Скажи наконец, что ты сделал с моим письмом? —
решительным тоном спросила Консуэло.
— Я же тебе сказал. Почему ты меня еще об этом
спрашиваешь? Я нашел очень неприличным, что молодая и порядочная девушка,
какой, я предполагаю, ты рассчитываешь всегда оставаться, тайно передает письма
своему парикмахеру. А чтобы этот человек не мог дурно подумать о тебе, я со
спокойным видом отдал ему письмо, поручив от твоего имени его отправить. По
крайней мере он не подумает, что ты скрываешь от своего приемного отца какую-то
преступную тайну.
— Ты прав, маэстро, ты хорошо поступил… прости меня!
— Прощаю. Не будем больше об этом говорить.
— И… ты прочел мое письмо? — прибавила Консуэло
ласково и боязливо.
— За кого ты меня принимаешь? — грозно воскликнул
Порпора.
— Прости меня за все, — проговорила Консуэло,
становясь перед ним на колени и порываясь взять его руку, — позволь
открыть тебе мою душу…
— Ни слова больше!.. — вскричал маэстро,
отталкивая ее, и прошел к себе в комнату, с шумом захлопнув за собой дверь.
Консуэло надеялась, что после этой гневной вспышки ей
удастся его успокоить и решительно объясниться с ним. Она чувствовала себя не в
силах высказаться до конца и добиться благоприятного результата, но Порпора
отказался от всяких объяснений, и его суровость была непоколебима и тверда. В
остальном же он относился к ней по-прежнему дружески и с этого дня стал даже
как бы веселее и добрее душой. Консуэло увидала в этом хорошее предзнаменование
и с упованием ждала письма из Ризенбурга.
Порпора не солгал: он сжег письма Консуэло, не прочитав их,
но сохранил конверт и вложил в него свое письмо к Христиану. Он думал этим
смелым поступком спасти свою ученицу и избавить старика Рудольштадта от жертвы,
превышающей его силы. Он считал, что исполнил по отношению к нему долг верного
друга, а по отношению к Консуэло — долг энергичного и разумного отца. Маэстро
не предвидел, что мог нанести смертельный удар графу Альберту. Едва зная его,
он полагал, что Консуэло все преувеличивает и молодой человек не так уж влюблен
и не так болен, как она воображала. Наконец, как все старики, он считал, что
любовь не вечна, а горе никого не убивает.
|


