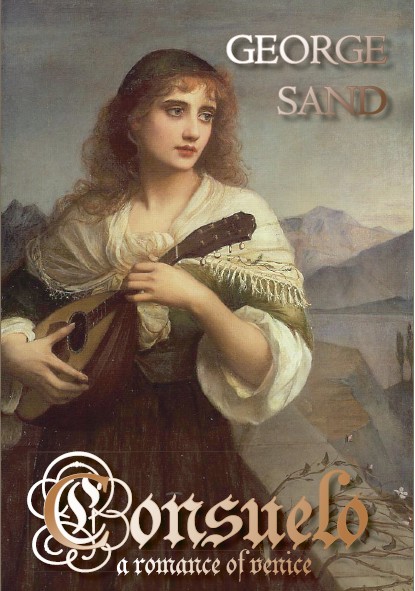
 Увеличить Увеличить |
Глава 82
Радость Консуэло, которой, наконец, довелось обнять своего
учителя и благодетеля, сменилась тягостным чувством, и скрыть его ей было
нелегко. Еще года не прошло с тех пор, как она рассталась с Порпорой, однако
этот год неопределенности, огорчений и печали оставил на озабоченном челе
маэстро глубокие следы страданья и дряхлости. У него появилась болезненная
полнота, развивающаяся у опустившихся людей от бездействия и упадка духа. В
глазах еще светился прежний оживлявший их огонек, но краснота одутловатого лица
свидетельствовала о попытках потопить в вине свои горести или с его помощью
вернуть вдохновение, иссякшее от старости и разочарований. Несчастный
композитор, направляясь в Вену, мечтал о новых успехах и благосостоянии, а его
встретила холодная почтительность. Он был свидетелем того, как более счастливые
соперники пользовались монаршей милостью и увлекали публику. Метастазио писал
драмы и оратории для Кальдара, для Предиери, для Фукса, для Рейтера и для
Гассе. И Метастазио, придворный поэт (poeta cesareo), модный писатель, новый
Альбани, любимец муз и дам, прелестный, драгоценный бог гармонии, —
словом, Метастазио, тот из поваров драматургии, чьи блюда были наиболее вкусны
и легче всего переваривались, не написал ни одной пьесы для Порпоры и даже не
пожелал дать ему каких-либо обещаний на этот счет. А между тем у маэстро,
по-видимому, еще могли появиться новые идеи, и, несомненно, за ним оставались
ученость, замечательное знание голосов, добрые неаполитанские традиции, строгий
вкус, широкий стиль, смелые музыкальные речитативы, не имевшие себе равных по
грандиозности и красоте. Но у него не было приверженной ему публики, и он
тщетно добивался либретто. Он не умел ни льстить, ни интриговать. Своей суровой
правдивостью он наживал себе врагов, а его тяжелый характер всех от него
отталкивал.
Он внес раздражение даже в ласковую, отеческую встречу с
Консуэло.
— А почему ты так поспешила покинуть Богемию? —
спросил он, взволновано расцеловав ее. — Зачем ты явилась сюда, несчастное
дитя? Здесь нет ни ушей, способных тебя слушать, ни сердец, способных тебя
понять. Здесь нет для тебя места, дочь моя! Твоего старого учителя публика
презирает, и если хочешь пользоваться успехом, ты последуй примеру других и
притворись, будто вовсе не знаешь его или презираешь, подобно тем, кто обязан
ему своим талантом, своим состоянием, своей славой.
— Как? Вы и во мне сомневаетесь? — воскликнула
Консуэло, и глаза ее наполнились слезами. — Вы, значит, не верите ни в мою
любовь к вам, ни в мою преданность и хотите излить на меня подозрительность и
презрение, зароненные в вашу душу другими? О дорогой учитель! Вы увидите, что я
не заслуживаю такого оскорбления. Вы увидите! Вот все, что я могу вам сказать.
Порпора нахмурил брови, повернулся к ней спиной, несколько
раз прошелся по комнате, затем вернулся к своей ученице. Видя, что она плачет,
и не зная, как и что сказать ей поласковей и понежнее, он взял из ее рук
носовой платок и с отеческой бесцеремонностью стал вытирать ей глаза,
приговаривая:
— Ну полно! Полно! Старик был бледен, и Консуэло
заметила, как он с трудом подавил в своей широкой груди тяжкий вздох. Но он
поборол волнение и, придвинув стул, сел подле нее.
— Ну, — начал он, — расскажи мне про свое
пребывание в Богемии и объясни, почему ты так внезапно оттуда уехала. Говори
же! — прибавил он несколько раздраженным тоном. — Разве мало найдется
чего мне рассказать? Ты там скучала? Или Рудольштадты нехорошо обошлись с
тобой? Впрочем, они тоже могли оскорбить тебя и извести. Богу известно, что это
единственные люди во всей вселенной, в которых я еще верил, но богу также
известно, что все люди способны на всякое зло.
— Не говорите так, друг мой, — остановила его
Консуэло, — Рудольштадты — ангелы, и говорить о них я должна бы не иначе,
как стоя на коленях, но я принуждена была покинуть их, принуждена была бежать,
даже не предупредив их, не простившись с ними.
— Что это значит? Разве ты можешь в чем-нибудь
упрекнуть себя по отношению к ним? Неужели мне придется краснеть за тебя и
пожалеть, что я послал тебя к этим славным людям?
— О нет! Нет! Слава богу, маэстро, мне не в чем себя
упрекнуть, и вам не придется за меня краснеть.
— Так в чем же дело? Консуэло знала, как необходимо
быстро и коротко отвечать Порпоре, когда он желал познакомиться с каким-нибудь
фактом или мыслью; в двух словах она сообщила, что граф Альберт предложил ей
руку и сердце, а она не могла дать ответ, не посоветовавшись предварительно со
своим приемным отцом.
Злобная и ироническая гримаса искривила лицо Порпоры.
— Граф Альберт! — воскликнул он. — Наследник
Рудольштадтов, потомок богемских королей, владелец замка Ризенбург! И он хотел
жениться на тебе, на цыганочке? На тебе, самой некрасивой из нашей школы,
дочери неизвестного отца, на комедиантке без гроша и без ангажемента? На тебе,
босиком просившей милостыню на перекрестках Венеции?
— На мне, на вашей ученице! На мне, вашей приемной
дочери! Да, на мне, на Порпорине! — ответила Консуэло со спокойной и
кроткой гордостью. — Ну, конечно, такая знаменитость, такая блестящая
партия! Действительно, описывая тебя, я забыл сказать об этом, — прибавил
с горечью маэстро. — Да, последняя и единственная ученица учителя без
школы, будущая наследница его лохмотьев и его позора. Носительница имени, уже
забытого людьми! Есть чем хвастаться и сводить с ума сыновей знатнейших
семейств! — По-видимому, учитель, — сказала Консуэло с грустной и
нежной улыбкой, — мы еще не так низко пали в глазах хороших людей, как вам
хочется думать, ибо несомненно, что граф хочет на мне жениться, и я явилась
сюда, чтобы с вашего разрешения дать ему свое согласие или при вашей поддержке
отказать ему.
— Консуэло, — ответил Порпора холодным и строгим
тоном, — я не люблю всех этих глупостей. Вы должны бы прекрасно знать, что
я ненавижу романы пансионерок или приключения кокеток. Никогда не поверил бы я,
что вы способны вбить себе в голову подобный вздор, и мне просто стыдно за вас.
Возможно, что молодой граф Рудольштадт немного увлекся вами, а деревенская
скука и восторг, вызванный вашим пением, и привели к тому, что он слегка
приударил за вами, но откуда у вас взялась дерзость принять это всерьез и в
ответ на это нелепое притворство разыгрывать роль принцессы в романе? Вы
возбуждаете во мне жалость, а если старый граф, если канонисса, если баронесса
Амелия знают о ваших притязаниях, то мне стыдно за вас, повторяю: я за вас
краснею!
Консуэло знала, что не следует ни противоречить Порпоре,
когда он вспылит, ни прерывать его во время наставлений. Она предоставила ему
излить свое негодование, а когда он высказал все, что только мог придумать
наиболее обидного и наиболее несправедливого, она рассказала ему правдиво и с
полнейшей точностью обо всем, что произошло в замке Ризенбург между ней и
графом Альбертом, графом Христианом, Амелией, канониссой и Андзолето. Порпора,
дав волю своему раздражению и нападкам, умел также слушать и понимать и с самым
серьезным вниманием отнесся к ее рассказу. А когда Консуэло кончила, он задал
ей еще несколько вопросов, чтобы, ознакомившись с подробностями, вникнуть в
интимную жизнь семьи и разобраться в чувствах каждого из ее членов. — В
таком случае… — проговорил он наконец, — ты хорошо поступила, Консуэло. Ты
вела себя умно, с достоинством, мужественно, как и следовало от тебя ожидать.
Это хорошо. Небо покровительствовало тебе, и оно вознаградит тебя, избавив раз
и навсегда от этого негодяя Андзолето. Что касается молодого графа, я запрещаю
тебе думать о нем. Такая судьба не для тебя. Никогда граф Христиан не позволит
тебе вернуться к артистической карьере, уж будь в этом уверена. Я лучше тебя
знаю неукротимую дворянскую спесь. Если же ты на этот счет не заблуждаешься
(что было бы и ребячливо и глупо), то я не думаю, чтобы ты хотя минуту
колебалась в выборе между жизнью великих мира сего и жизнью людей искусства.
Что ты об этом думаешь? Отвечай же! Черт возьми! Ты словно меня не слышишь!
— Прекрасно слышу, учитель, но вижу, что вы ровно
ничего не поняли из того, что я вам рассказала.
— Как я ничего не понял? Что ж, по-твоему, я перестал
теперь даже понимать? — И черные глазки маэстро снова злобно засверкали.
Консуэло, знавшая Порпору как свои пять пальцев, видела, что
не надо сдаваться, если она хочет, чтобы ее выслушали.
— Нет, вы меня не поняли, — возразила она
уверенным тоном, — вы, видимо, предполагаете во мне тщеславие, которого у
меня нет. Я вовсе не завидую богатству великих мира сего, будьте в этом
уверены, и никогда не говорите мне, дорогой учитель, что оно играет какую-либо
роль в моих колебаниях. Я презираю преимущества, полученные не личными
заслугами. Вы воспитали меня в таких принципах, и я не могла бы изменить им. Но
в жизни все же есть «нечто», кроме денег и тщеславия, и это «нечто» настолько
ценно, что может возместить и упоение славой и радости артистической жизни. Это
— любовь такого человека, как Альберт, это — семейное счастье, семейные
радости. Публика — властелин тиранический, капризный и неблагодарный.
Благородный муж — друг, поддержка, второе «я». Полюби я Альберта так, как он
меня любит, я перестала бы думать о славе и, вероятно, была бы более счастлива.
— Что за глупые речи! — воскликнул маэстро. —
С ума вы сошли, что ли?
Да вы просто ударились в немецкую сентиментальность! Бог
мой, до какого презрения к искусству вы дошли, графиня! Вы сами только сейчас
говорили, что «ваш» Альберт, как вы позволяете себе его называть, внушает вам
больше страха, чем влечения, и вы вся холодеете от ужаса подле него; кроме
того, вы рассказали мне еще много другого, что я, с вашего позволения,
прекрасно слышал и понял. А теперь, когда вы снова обрели свободу — это
единственное благо артиста, единственное условие для его развития, вы являетесь
ко мне и спрашиваете, не нужно ли вам повесить себе камень на шею, чтобы
броситься на дно колодца, где обитает ваш возлюбленный ясновидец? Ну и
прекрасно! Поступайте, как вам угодно, я больше не вмешиваюсь в ваши дела, и
мне больше нечего вам сказать. Не стану я терять времени с особой, которая не
знает сама, что она говорит и чего хочет! У вас нет здравого смысла. Вот и все.
Слуга покорный.
Высказав это, Порпора уселся за клавесин и стал
импровизировать, сильной, умелой рукой подбирая сложнейший аккомпанемент.
Консуэло, отчаявшись на этот раз серьезно обсудить с ним интересующий ее
вопрос, придумывала, как бы привести его хотя бы в более спокойное расположение
духа. Ей это удалось, когда она начала петь национальные песни, выученные в
Богемии; оригинальность мелодий привела в восторг старого маэстро. Потом она
потихоньку уговорила Порпору показать ей свои последние произведения. Она
пропела их с листа с таким совершенством, что маэстро снова стал восхищаться
ею, снова почувствовал к ней нежность. Бедняга, возле него не было талантливых
учеников, а к каждому новому лицу он относился с недоверием. Сколько же давно
не испытанной радости доставило ему исполнение Консуэло, понявшей своей
прекрасной душой его мысли и передавшей их своим красивым голосом! Он был до
того растроган, прослушав, как его талантливая и всегда покорная Порпорина
исполняет созданные им произведения именно так, как он их задумал, что даже
заплакал радостными слезами и, прижимая ее к сердцу, воскликнул:
— О, ты первая певица в мире! Голос твой стал вдвое
крепче и сильнее, и ты сделала такие успехи, словно я ежедневно в течение всего
этого года занимался с тобой. Еще, еще, дочка, пропой мне эту тему. Ты мне
даешь минуты давно не испытанного счастья!
Они скудно пообедали за маленьким столиком у окошка. Порпора
был очень плохо устроен. Его комната, мрачная, темная, всегда в беспорядке,
выходила на угол узкой и пустынной улицы. Консуэло, видя, что он пришел в
хорошее расположение духа, решилась заговорить с ним об Иосифе Гайдне.
Единственно, что она скрыла от учителя, это свое длинное пешее путешествие с
молодым человеком и странные приключения, породившие между ними такую нежную,
чистую дружбу. Она знала, что ее учитель, по своему обыкновению, отнесется
недоброжелательно ко всякому желающему брать у него уроки, о ком отзовутся с
похвалой. И потому она с самым равнодушным видом рассказала Порпоре, что,
подъезжая к Вене, разговорилась в экипаже с одним бедным юношей и он с таким
почтением и восторгом говорил о школе Порпоры, что она почти обещала ему
замолвить о нем словечко перед самим маэстро.
— А кто этот молодой человек? — спросил
Порпора. — К чему он готовит себя? Конечно, в артисты, раз он бедняк?
Благодарю за таких клиентов! Больше я не намерен учить никого, кроме сынков
аристократов. Эти по крайней мере платят, хоть и ничему не выучиваются, но зато
гордятся нашими уроками, воображая, что выходят из наших рук с какими-то
познаниями. А артисты все неблагодарные подлецы, предатели, лгуны… Лучше и не
заикайся мне об этом. Не желаю, чтобы кто-либо из них переступил порог этой
комнаты. А случись это, я моментально вышвырну его за окно! Консуэло пробовала
было рассеять его предубеждение, но старик так упорно стоял на своем, что она
отказалась от своего намерения и, высунувшись немного из окна в тот момент,
когда учитель повернулся к ней спиной, сделала сначала один, а потом другой
знак рукой. Иосиф, бродивший по улице в ожидании условленного сигнала, понял на
основании первого знака, что надо отказаться от какой-либо надежды попасть в
число учеников Порпоры; второй знак говорил о том, что ему не следовало
появляться раньше, чем через полчаса.
Консуэло перевела разговор на другое, чтобы Порпора забыл об
ее словах. Прошло полчаса, и Иосиф постучал в дверь. Консуэло пошла отпирать и,
притворяясь, будто не знает Иосифа, вернулась доложить маэстро, что к нему
явился наниматься слуга.
— Покажись-ка! — крикнул Порпора дрожавшему
юноше. — Подойди сюда.
Кто тебе сказал, что я нуждаюсь в слуге? Никакого слуги мне
не нужно.
— Если вы не нуждаетесь в слуге, — ответил Иосиф,
совсем растерявшись, но стараясь, по совету Консуэло, держаться
молодцом, — это крайне для меня прискорбно, сударь, ибо я очень нуждаюсь в
хозяине.
— Можно подумать, что я один могу дать тебе
заработок! — возразил Порпора. — Ну посмотри на мою квартиру и мебель
— считаешь ли ты, что мне нужен лакей для уборки?
— Да, конечно, сударь, он очень был бы нужен
вам, — ответил Гайдн, разыгрывая доверчивого простака, — ведь здесь
ужасный беспорядок!
С этими словами он тут же принялся за дело и стал убирать
комнату с такой аккуратностью и хладнокровием, что Порпора расхохотался. Иосиф
все поставил на карту, ибо, не рассмеши он своим усердием хозяина, тот,
пожалуй, заплатил бы ему палочными ударами.
— Вот чудак, хочет служить мне помимо моей воли! —
проговорил Порпора, глядя на его старание. — Говорят тебе, идиот, у меня
нет средств платить слуге. Ну что? Будешь еще продолжать усердствовать?
— За этим, сударь, дело не станет. Лишь бы вы мне
давали свои обноски да ежедневно по куску хлеба. Вот мне и довольно. Я так
беден, что почту себя счастливым, если мне не придется просить милостыню.
— Но почему же тебе не поступить в богатый дом?
— Немыслимо, сударь: находят, что я слишком мал ростом
и слишком уродлив. К тому же я ничего не смыслю в музыке, а знаете, теперь все
вельможи хотят, чтобы их лакеи умели немного играть на скрипке или флейте для
домашнего обихода. Я же никогда не мог вбить себе в голову ни единой
музыкальной ноты.
— Ага! Ага! Ты ничего не смыслишь в музыке? Ну, так мне
именно такой человек и нужен. Если ты удовольствуешься пищей и моими обносками,
я тебя беру. Вот и дочери моей тоже понадобится старательный малый для
поручений. Посмотрим, на что ты годен. Умеешь чистить платье, мести пол,
докладывать о посетителях и провожать их?
— Да, сударь, я все умею.
— Ну, хорошо, так начинай. Приготовь мне вот тот
костюм, что лежит на кровати, так как я через час отправляюсь к посланнику.
Консуэло, ты будешь меня сопровождать. Я хочу представить тебя синьору
Корнеру, — ты его знаешь. Он только что вернулся с целебных вод со своей
синьорой. У меня есть еще одна маленькая комнатка, я тебе ее уступаю; пойди
туда, приоденься немного, пока я буду собираться.
Консуэло повиновалась, прошла через переднюю в
предоставленную ей темную комнатку и облеклась в свое вечное черное платье с
неизменной белой косынкой, прибывшее сюда на плечах Иосифа.
«Не очень-то роскошный туалет для посещения
посольства, — подумала она, — но ведь в нем я дебютировала в Венеции,
и, однако, это не помешало мне хорошо петь и иметь успех».
Переодевшись, она вышла в переднюю, где нашла Гайдна, с
важностью завивавшего парик Порпоры, посаженный на палку. Взглянув друг на
друга, оба чуть не прыснули.
— Как же это ты справляешься с таким великолепным
париком? — спросила она тихо, чтобы не услышал Порпора, одевавшийся в
соседней комнате.
— Ничего, — ответил Иосиф, — само собой
выходит. Я часто видел, как это делает Келлер. А кроме того, сегодня он дал мне
урок и еще поучит, чтобы я — и в завивке и в расчесывании волос достиг
совершенства.
— Мужайся, бедный мой мальчик, — сказала Консуэло,
пожимая ему руку, — учитель в конце концов смягчится. Дороги, ведущие к
искусству, полны терний, но иногда удается срывать и прекрасные цветы.
— Спасибо за метафору, дорогая сестрица Консуэло. Будь
уверена, я не паду духом, только бы ты, проходя мимо меня по лестнице или в
кухне, бросала мне время от времени дружеское, подбадривающее словечко, и я все
вынесу с радостью.
— А я помогу тебе выполнять твои обязанности, —
сказала, улыбаясь, Консуэло. — Что же, ты думаешь, я не начинала, как ты?
Девочкой я часто прислуживала Порпоре. Не раз я исполняла его поручения,
взбивала для него шоколад, гладила брыжи. Вот для начала я поучу тебя, как надо
чистить костюм, — я вижу, ты в этом ровно ничего не смыслишь: ломаешь
пуговицы и мнешь отвороты.
Тут она взяла из его рук щетку и, действуя ею проворно и
ловко, показала, как надо чистить. Но, услышав, что идет Порпора, она быстро
передала Иосифу щетку и в присутствии хозяина важно проговорила:
— Ну же, мальчик, поторапливайтесь!
|


