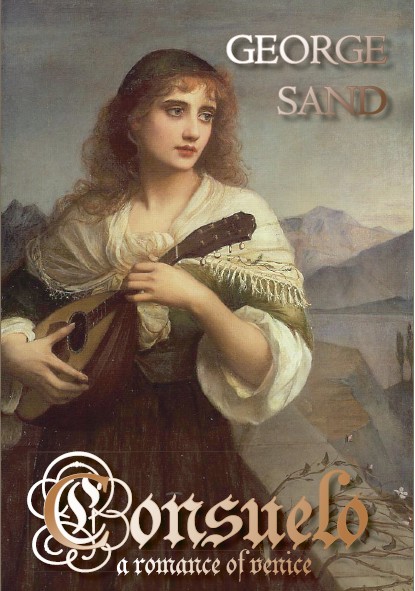
 Увеличить Увеличить |
Глава 36
Когда Консуэло, исполненная оживления и надежды, снова
очутилась в обществе удрученной и молчаливой семьи, она стала упрекать себя за
то, что так строго осуждала втайне бесчувственность этих глубоко опечаленных
людей. Граф Христиан и канонисса почти ничего не ели за завтраком, капеллан
тоже не решался проявить свой аппетит; Амелия, по-видимому, была очень не в
духе. Когда встали из-за стола, старый граф подошел к окну, посмотрел на
усыпанную песком дорожку, идущую от речного заповедника, по которой мог
вернуться Альберт, и, постояв с минуту, печально покачал головой, как бы
говоря: «Еще один день, который дурно начался и так же дурно кончится».
Консуэло попыталась развлечь их, исполнив на клавесине
кое-что из последних церковных произведений Порпоры, которые все они всегда
слушали с особенным восхищением и интересом. Она страдала оттого, что, видя их
такими угнетенными, не может поделиться с ними своими надеждами. Но когда граф
взялся за книгу, а канонисса, сев за вышивание, подозвала ее к своим пяльцам,
чтобы посоветоваться, какими крестиками — белыми или голубыми — заполнить
середину узора, все мысли Консуэло сосредоточились невольно на Альберте, который,
может быть, изнывал в эту минуту от усталости и голода где-нибудь в лесу и, не
будучи в силах найти дорогу, лежал, застигнутый летаргическим сном, на
каком-нибудь холодном камне, подвергаясь опасности стать добычей волков и змей,
в то самое время, как под искусными и неутомимыми пальцами кроткой Венцеславы
распускались на покрывале многочисленные роскошные цветы, орошаемые иногда
бесплодной, пролитой украдкой слезой.
Как только ей удалось заговорить с надувшейся Амелией,
Консуэло спросила, кто этот странно одетый сумасшедший, который блуждает по
окрестностям и при встрече с людьми смеется, как ребенок.
— А, это Зденко, — ответила Амелия. — Разве
вы еще не видели его во время ваших прогулок? Он постоянно бродит всюду, потому
что он бездомный.
— Сегодня утром я видела его впервые, — сказала
Консуэло, — и решила, что он постоянный обитатель Шрекенштейна.
— Так вот куда вы уже успели слетать спозаранку? Я
начинаю думать, милая Нина, что вы сами не в своем уме: забраться одной ни свет
ни заря в эти пустынные места, где можно встретиться с кем-нибудь и похуже
безобидного дурачка Зденко!
— Например, с голодным волком? — улыбаясь,
проговорила Консуэло. Мне кажется, карабин барона, вашего отца, сделал
безопасной всю округу. — Дело не в одних диких зверях, — сказала Амелия, —
наши места не так безопасны, как вы думаете, от самых злых на свете тварей —
разбойников и бродяг. Только что закончившиеся войны разорили много народу и
наплодили много нищих, привыкших просить милостыню с пистолетом в руке. Кроме
того, здесь еще бродят целые тучи египетских цыган, которых во Франции делают
нам честь именовать «богемцами», словно они уроженцы наших гор, куда они
хлынули, высадившись в Европе. Эти люди, отовсюду гонимые и всеми отвергнутые,
трусливы и раболепны перед вооруженным человеком, но могут повести себя очень
дерзко с такой красивой девушкой, как вы; и я боюсь, как бы ваша склонность к
рискованным прогулкам не подвергла вас большей опасности, чем подобает такой
благоразумной особе, какую изображает из себя милая Порпорина.
— Дорогая баронесса, — возразила Консуэло, —
хотя вы и считаете волчьи зубы ничтожной опасностью по сравнению с другими, мне
грозящими, но, представьте, волков я боюсь все-таки гораздо больше, чем цыган.
Цыгане — мои старые знакомые; да и вообще можно ли бояться людей слабых,
бедных, преследуемых? Мне кажется, я всегда сумею поговорить с ними так, чтобы
заслужить их доверие и симпатию; как они ни безобразны, ни оборваны, ни
презираемы, я все-таки не могу не интересоваться ими особенно живо.
— Браво, моя милая! — воскликнула, все более и
более раздражаясь, Амелия. — Вы, оказывается, как и Альберт, питаете
нежные чувства к нищим, разбойникам, сумасшедшим, и я вовсе не удивлюсь, если в
одно прекрасное утро увижу вас гуляющей с милейшим Зденко, опираясь, как делает
это Альберт, на его довольно грязную и мало надежную руку.
Эти слова были для Консуэло проблеском света, которого она
искала с самого начала разговора с Амелией, и они примирили ее с язвительным
тоном собеседницы.
— Так, значит, граф Альберт дружит со Зденко? —
спросила она с довольным видом, которого даже не пыталась скрыть.
— Это его самый близкий, самый дорогой друг, — с
презрительной улыбкой ответила Амелия, — его спутник во время прогулок,
поверенный его тайн, посредник, как говорят, его сношений с дьяволом. Зденко и
Альберт одни только и осмеливаются в любое время отправляться на скалу Ужаса и
там обсуждать самые нелепые религиозные вопросы. Только Альберт и Зденко не
стыдятся сидеть на траве с цыганами, когда те делают привал под тенью наших елей,
и делить с ними отвратительную пищу, которую эти люди готовят в своих
деревянных мисках. Это у них называется «причащаться»; ну и, конечно, тут
происходит всякого рода «причащение». Нечего сказать, хорошим супругом, хорошим
возлюбленным будет мой кузен Альберт, когда той самой рукою, которою он только
что пожимал зачумленную руку цыгана, возьмет руку невесты и поднесет ее ко рту,
недавно пившему вино из одной чаши со Зденко!
— Может, все это и очень забавно, — проговорила
Консуэло, — но я в этом ровно ничего не понимаю!
— Это потому, что вы не интересуетесь историей, —
возразила Амелия, — и плохо слушали то, что я вам рассказывала о гуситах и
о протестантах. Сколько дней я надрывала голос, чтобы научно объяснить вам
таинственное поведение и нелепые религиозные обряды моего кузена! Разве не
говорила я вам, что великий раскол между гуситами и католической церковью
произошел из-за двух видов причастия? Базельский собор постановил, что давать
мирянам кровь Христа под видом вина — осквернение святыни (удивительное
умозаключение!), так как вкушающий, мол, его тело уже одновременно пьет и его
кровь! Понимаете?
— Мне кажется, что отцы собора сами себя хорошенько не
понимали, — сказала Консуэло. — Чтобы быть логичными, они должны были
бы сказать, что причащение вином излишне, но почему это «осквернение святыни»,
раз, вкушая хлеб, пьют и кровь?
— Дело в том, что гуситы жаждали крови, а отцы собора
прекрасно сознавали это. Они также жаждали крови этого народа, но высасывать ее
хотели в виде золота. Римская церковь всегда чувствовала голод и жажду и всегда
насыщалась жизненным соком народов, трудом и потом бедняков. Бедняки восстали и
вернули себе свою кровь и пот в виде монастырских сокровищ и епископских митр.
Вот вся суть распри, к которой, как я вам уже говорила, присоединилась жажда
национальной независимости и ненависть к чужеземцам. Разногласие по поводу
причастия послужило как бы знаменем для борьбы. Рим и его священнослужители в
церквах употребляли золотые чаши с драгоценными каменьями; гуситы же, подражая
бедности апостолов, пользовались деревянными чашами, протестуя против роскоши
католической церкви. Вот почему Альберт, вбивший себе в голову стать гуситом,
хотя теперь, в сущности, все это потеряло всякий смысл и всякое значение, и
вообразивший, что знает истинное учение Яна Гуса лучше, чем знал его сам Ян
Гус, и стал придумывать всякие виды причастия, сам причащаясь на больших
дорогах со всякими язычниками, нищими и юродивыми. Ведь причащаться во всякое
время и со всеми было манией гуситов. — Все это чрезвычайно странно, —
ответила Консуэло, — и, по-моему, поведение графа Альберта можно объяснить
только экзальтированным патриотизмом, доходящим, признаюсь, до исступления.
Идея, быть может, и глубока, но формы, в которые он ее облекает, кажутся мне
слишком ребяческими для такого серьезного и образованного человека. Разве
истинное причастие не состоит скорее в том, чтобы творить милостыню? Что значат
пустые, отжившие обряды, наверное, даже непонятные для тех, кого он заставляет
принимать в них участие?
— Что касается милостыни, Альберт раздает ее щедрою
рукой, и, дай ему только волю, от его богатства очень скоро ничего не
останется. И мне, по правде сказать, очень хотелось бы, чтоб оно растаяло в
руках его нищих. — Почему же?
— Да потому, что мой отец отказался бы тогда от мысли
обогатить меня, выдав замуж за этого бесноватого. Надо вам сказать, милая
Порпорина, — прибавила Амелия не без злого умысла, — что моя семья не
отказалась еще от этого милого плана. На днях, когда в мозгу моего кузена
наступило некоторое просветление, похожее на мимолетный луч солнца среди черных
туч, отец возобновил наступление на меня с большей настойчивостью, чем я могла
от него ожидать. У нас произошла довольно крупная ссора, после которой,
очевидно, решено попытаться взять меня скучным заточением, подобно тому как
крепость берут измором. Итак, если я ослабею, если изнемогу и не выдержу
натиска, мне придется выйти замуж за Альберта, и выйти против его воли, против
своей воли и вопреки желанию третьей особы, которая делает вид, будто все это ей
безразлично.
— Вот-вот, — ответила Консуэло, смеясь, — я
ожидала этой колкости, и, конечно, вы удостоили меня своей утренней беседой
лишь для того, чтобы высказать ее. Я принимаю ее с удовольствием, так как вижу
в этой маленькой комедии, подсказанной ревностью, остаток вашей привязанности к
графу Альберту, и притом более пылкой, чем вы хотите признать.
— Нина! — решительно вскричала молодая
баронесса. — Если вы так думаете, вы совсем непроницательны, а если вам
доставляет удовольствие это видеть, значит, вы мало меня любите. Правда, я
своевольна, быть может горда, но откровенна. Я уже говорила вам, что
предпочтение, оказываемое вам Альбертом, восстанавливает меня, но вовсе не
против вас, а против него. Оно уязвляет мое самолюбие, но вместе с тем подает
мне надежду на исполнение моего желания. Мне бы хотелось, чтобы из-за вас он
сделал какую-нибудь безумную выходку, которая развязала бы мне руки и дала
возможность, не щадя его более, выказать ему то отвращение, с которым я долго
боролась, но которое в конце концов почувствовала к нему уже без всякой примеси
жалости или любви.
— Дай бог, — кротко ответила Консуэло, —
чтобы в вас говорила страсть, а не правда! Это была бы очень суровая правда, и
притом в устах очень жестокого человека.
Язвительность и запальчивость, проявленные Амелией в этом
разговоре, не произвели большого впечатления на великодушное сердце Консуэло.
Уже несколько минут спустя все ее мысли снова сосредоточились на том, как
вернуть Альберта его семье, и мечта эта внесла наивную радость в ее однообразную
жизнь. Это было ей просто необходимо, чтобы уйти от грозившей ей тоски —
недуга, совершенно незнакомого и несвойственного ее деятельной, трудолюбивой
натуре, — недуга, который мог стать для нее гибельным. Ведь по окончании
продолжительного неинтересного урока со своей непослушной и невнимательной
ученицей ей ничего больше не оставалось, как упражнять свой голос и изучать
старых мастеров. Но и это никогда не изменявшее ей утешение то и дело
отравлялось: праздная, беспокойная Амелия постоянно врывалась к ней, мешая ее
занятиям своими пустыми вопросами и не идущими к делу замечаниями. Остальные
члены семьи были угрюмы. Прошло уже пять мучительных дней, а молодой граф все
не появлялся, и с каждым днем подавленность и уныние, вызванные его
отсутствием, возрастали.
После обеда, гуляя с Амелией по саду, Консуэло вдруг увидела
по ту сторону рва, отделявшего их от полей, Зденко. Казалось, он говорил сам с
собой и, судя по интонации, рассказывал себе какую-то историю. Консуэло
остановила спутницу и попросила ее перевести то, что говорило это странное
существо.
— Как могу я переводить бессмысленные бредни, в которых
нет ни малейшей последовательности? — пожимая плечами, ответила
Амелия. — Ну хорошо, вот что он бормотал, раз уж вам так хочется это
знать: «Была однажды большая гора, совсем белая, совсем белая, рядом с ней
большая гора, совсем черная, совсем черная, и рядом еще большая гора, совсем
красная, совсем красная…» Ну что, вас это очень интересует?
— Может быть, если б я могла знать продолжение. Ах! Что
бы я дала, чтобы понимать по-чешски! Я хочу научиться этому языку.
— Это не такой легкий язык, как итальянский и
испанский, но вы до того старательны, что, если возьметесь, наверное его
одолеете. Если это вам доставит удовольствие, я обучу вас ему.
— Вы будете просто ангелом! Но только при условии, что
в роли учительницы вы проявите больше терпения, чем в роли ученицы. А что
говорит Зденко теперь?
— Сейчас говорят его горы: «Отчего, гора красная,
совсем красная, задавила ты гору черную, совсем черную? А ты, гора белая,
совсем белая, зачем позволила раздавить гору черную, совсем черную?»
Тут Зденко запел пронзительным, разбитым голосом, но так
верно и с таким чувством, что Консуэло была растрогана до глубины души.
Песнь его была такова:
«Горы черные и горы белые, много вам надо воды с красной
горы, чтобы вымыть ваши платья;
Ваши платья, черные от преступлений и белые от праздности,
ваши платья, загрязненные ложью, ваши платья, сверкающие гордыней.
Но вот они вымыты, хорошенько вымыты, оба ваши платья, не
хотевшие переменить свой цвет. Вот они изношены, совсем изношены, ваши платья,
не хотевшие влачиться по дороге!
Вот все горы красные, совсем красные. Нужны все воды неба,
все воды неба, чтобы их вымыть».
— Что это? Импровизация или старинная народная
песня? — спросила Консуэло у своей подруги.
— А кто может это знать? — ответила Амелия. —
Ведь Зденко — неистощимый импровизатор или весьма искусный народный певец. Наши
крестьяне очень любят его пение, а его почитают за святого, воображая, что его
безумие — не прирожденное несчастье, а дар небесный. Они его кормят, носятся с
ним; пожелай он только, он получил бы самое лучшее жилище и был бы одет лучше
всех. Все наперебой стремятся залучить его в свой дом: ведь считается, что он
приносит счастье и предвещает удачу. Небо покрыто тучами, но стоит показаться
Зденко, и все с облегченным вздохом повторяют: «Ничего! Града не будет!»
Выдастся плохой урожай, — просят Зденко спеть; и так как в своих песнях он
всегда сулит годы плодородия и изобилия, то все утешаются, ожидая лучшего
будущего. Но жить Зденко ни у кого не хочет. Его натура бродяги влечет его в
чащу лесов. Так и неизвестно, где проводит он ночи, где укрывается от холода и
гроз. Ни разу за десять лет никто не видел, чтобы он вошел под чей-либо кров,
кроме замка Великанов; он утверждает, что во всех домах округи — его предки и
что ему запрещено показываться им на глаза. Альберта же он провожает вплоть до
его комнаты; он предан и покорен ему, как его пес Цинабр. Альберт —
единственный человек, которому подчиняется эта дикая, независимая натура; он
может одним словом прекратить неистощимую веселость, вечные песни, неумолчную
болтовню Зденко. Говорят, когда-то у Зденко был прекрасный голос, но он
надорвал его своей болтовней, пением и смехом. Годами он не старше Альберта, а
ведь по виду ему лет пятьдесят. Они были товарищами детства; тогда Зденко был
только наполовину сумасшедшим. Он из старинного рода; один из его предков даже
играл видную роль в войне гуситов. Так как в юности у Зденко была хорошая
память и вообще неплохие способности, родители, ввиду его слабого здоровья,
решили сделать из него монаха. Долго видели его в одежде послушника какого-то
нищенствующего ордена. Но подчинить его монастырским правилам так и не смогли:
когда, бывало, его вместе с одним из монахов посылали в объезд для сбора
пожертвований, а с ним осла, нагруженного дарами правоверных, он вдруг бросал и
суму, и осла, и монаха и надолго пропадал в лесах. Когда Альберт отправился
путешествовать, Зденко впал в полное отчаяние, скинул рясу, убежал из монастыря
и сделался настоящим бродягой. Меланхолия его мало-помалу рассеялась, но
проблески рассудка, порой мерцавшие среди его странностей, окончательно
исчезли. Речь его сделалась бессвязной, он стал проявлять непонятные причуды —
словом, окончательно сошел с ума. Но так как он всегда трезв, пристоен и
безобиден, то его можно считать скорее идиотом, чем сумасшедшим. Наши крестьяне
зовут его не иначе как «юродивый».
— Все, что вы рассказали об этом несчастном человеке,
внушает мне симпатию к нему, — проговорила Консуэло. — Мне хотелось
бы с ним побеседовать. Говорит ли он хоть немного по-немецки?
— Он понимает этот язык и даже немного говорит на нем,
но, как все богемские крестьяне, ненавидит его. К тому же, вы сами видите, он
так погружен в свои мечтания, что вряд ли ответит, если вы его о чем-нибудь
спросите.
— Попробуйте тогда заговорить с ним на его родном языке
и привлечь его внимание, — сказала Консуэло.
Амелия окликнула Зденко несколько раз, спросила его
по-чешски, как его здоровье и не нужно ли ему чего, но ей так и не удалось ни
заставить его поднять опущенную к земле голову, ни оторвать от игры в камешки.
У него их было три: белый, черный и красный. Он поочередно бросал камни,
стараясь одним сбить два других, и очень радовался, когда они падали.
— Вы видите, это бесполезно, — сказала
Амелия. — Если он не голоден и не ищет Альберта, он никогда с нами не
разговаривает. В том и в другом случае он появляется у ворот замка. Если он
только голоден, то ожидает у ворот; ему приносят то, чего он хочет, и, поблагодарив,
он уходит. Если же он желает видеть Альберта, то входит в замок, направляется к
его комнате и стучится в дверь, которая для него всегда открыта. Он проводит
там целые часы: тихо, молча, словно боязливый ребенок, если Альберт работает;
весело и оживленно болтая, когда тот расположен его слушать. По-видимому,
Зденко никогда не бывает в тягость моему любезному кузену, и в этом отношении
он счастливее всех нас, членов его семьи.
— А когда граф Альберт исчезает, как, например, сейчас,
Зденко, который так горячо его любит, Зденко, впавший в отчаяние, когда граф
отправился путешествовать, Зденко, неразлучный его товарищ, — неужели он
при этом не проявляет беспокойства?
— Никакого. Он уверяет в таких случаях, что Альберт
отправился в гости к господу богу и скоро оттуда вернется. Это же самое говорил
он, примирившись наконец с путешествием Альберта по Европе.
— А вы не подозреваете, дорогая Амелия, что у Зденко,
может быть, больше оснований, чем у всех вас, для этого спокойствия? Вам
никогда не приходило в голову, что Зденко посвящен в тайну Альберта и что во
время его припадков или летаргического сна он его охраняет?
— Да, у нас была эта мысль, и мы долго наблюдали за его
действиями, но, так же как и его покровитель Альберт, он терпеть не может,
когда за ним следят. Хитрее преследуемой собаками лисицы, он каждый раз
умудрялся всех обмануть, всех сбить с толку, замести все следы. По-видимому,
он, подобно Альберту, обладает способностью, когда захочет, делаться невидимым.
Бывали случаи, когда на глазах у всех он исчезал, словно проваливался сквозь
землю или словно его окутывало непроницаемое облако. Так по крайней мере
утверждают наши слуги и сама тетушка Венцеслава, которая, несмотря на всю свою
набожность, не очень-то далеко ушла от них в вопросе о власти сатаны.
— Но вы, дорогая баронесса, не можете же вы верить в
такой вздор?
— Я придерживаюсь взгляда дяди Христиана. Он полагает,
что если Альберту в его таинственных невзгодах помогает и содействует только
этот сумасшедший, то очень опасно устранять его, и мы, выслеживая и затрудняя
действия Зденко, рискуем оставить Альберта на целые часы и дни без ухода и даже
без пищи, которую он может через него получать. Но, ради бога, милая Нина,
переменим разговор! Довольно заниматься этим идиотом! Он, поверьте, далеко не так
меня интересует, как вас. Мне ужасно надоели все его рассказы и песни, а от его
надтреснутого голоса у меня просто уши вянут.
— Я очень удивлена, — сказала Консуэло, подчиняясь
уводившей ее подруге, — что вы не находите в его голосе необычайной
прелести. А на меня, как он ни слаб, голос его производит больше впечатления,
чем голоса самых великих певцов. — Это потому, что вы пресыщены прекрасным
и вас прельщает новизна.
— Язык, на котором он поет, необыкновенно мягок, —
настаивала Консуэло, — и вы заблуждаетесь, считая его мелодии монотонными;
напротив, в них есть много оригинального и приятного.
— Только не для меня! Мелодии эти ужасно мне надоели.
Вначале я заинтересовалась содержанием его песен, принимая их, как и местные
жители, за старинные народные песни, любопытные в историческом отношении, но
так как он каждый раз передает их по-разному, то это, очевидно, не что иное,
как импровизация; и вскоре я пришла к заключению, что слушать их не стоит, хотя
наши горцы и воображают, что в них скрыт какой-то символический смысл.
Как только Консуэло удалось избавиться от Амелии, она
побежала в сад и застала Зденко на том же месте, у рва, поглощенного все той же
игрой. Убежденная, что этот несчастный тайно сносится с Альбертом, она успела
украдкой сбегать в буфетную и утащить оттуда пирожок из крупичатой муки и меда
— собственноручное произведение канониссы: она запомнила, что Альберт, который
вообще ел очень мало, оказывал — вероятно, машинально — предпочтение этому
кушанию, изготовляемому теткой для племянника с особым старанием. Завернув
пирожок в белый платок и желая перебросить его Зденко через ров, она решилась
окликнуть его. Но так как, по-видимому, он не хотел ее слушать, она, вспомнив,
с каким пылом он выкрикивал ее имя, произнесла его сначала по-немецки. Зденко,
казалось, услыхал ее, но, будучи в эту минуту меланхолически настроен, покачал,
не глядя на нее, головой и со вздохом повторил: «Утешение, утешение», как бы
говоря:
«Утешения я больше не жду».
— Консуэло, — произнесла тогда молодая девушка,
желая посмотреть, не пробудит ли в сумасшедшем ее испанское имя ту радость,
какую он выказывал этим утром, повторяя его.
Зденко тотчас прекратил свою игру в камешки и, радостный и
сияющий, принялся скакать и прыгать, подбрасывая в воздух шапку, протягивая ей
через ров руки и при этом оживленно лопоча что-то по-чешски.
— Альберт! — крикнула снова Консуэло, бросая ему
пирожок.
Зденко, смеясь, поднял его, не развернув платка, и опять
начал говорить без конца, но Консуэло, к своему отчаянию, ничего не поняла.
Особенно прислушивалась она, стараясь запомнить одну фразу, которую он ей все
повторял, раскланиваясь. Благодаря своему музыкальному уху ей удалось точно
уловить произношение этих слов. Как только Зденко бросился бежать со всех ног,
она сейчас же записала итальянскими буквами эту фразу в свою памятную книжечку,
собираясь спросить разъяснения у Амелии. Но, пока Зденко не скрылся из виду, ей
захотелось послать Альберту что-нибудь такое, что более тонко сказало бы ему о
ее сочувствии, и она стала снова звать сумасшедшего; послушный ее зову, тот
вернулся, и она, отколов от пояса свежий и душистый букет, за час перед тем
сорванный в оранжерее, бросила его Зденко. Он, подняв букет, снова стал
раскланиваться, выкрикивать что-то, скакать и наконец исчез в густых кустах,
через которые, казалось, не смог бы пробраться и заяц. Консуэло несколько
секунд следила по верхушкам ветвей, качавшихся в направлении к юго-востоку, за
его быстрым бегом, но налетевший ветер, качнувший разом все ветки зарослей,
помешал ее наблюдениям, и она вернулась домой, еще более утвердившись в своем
решении достигнуть намеченной цели.
|


