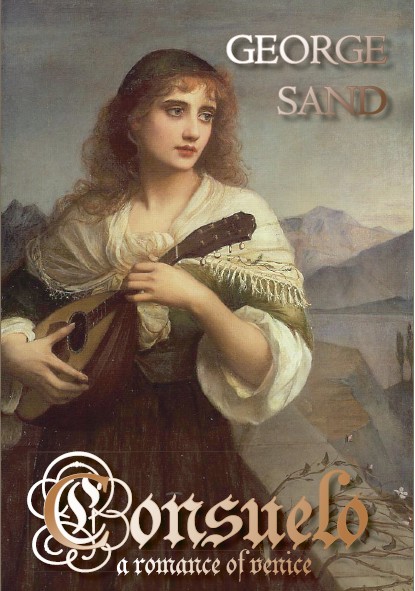
 Увеличить Увеличить |
Глава 28
— На следующий день моей тетушке, становящейся
разговорчивой, лишь когда она чем-нибудь очень взволнована, пришла в голову
злосчастная мысль затеять беседу с аббатом и капелланом. А так как, помимо
родственных привязанностей, поглощающих ее почти всецело, единственное в мире,
что ее интересует, — это величие нашего рода, то она не преминула
распространиться насчет своей родословной, доказывая обоим священникам, что наш
род, особенно по женской линии, самый знаменитый, самый чистый — словом,
наилучший из всех немецких родов. Аббат слушал терпеливо, капеллан — с
благоговением, как вдруг Альберт, казалось совершенно не слушавший тетушку,
прервал ее с легким раздражением:
«Мне кажется, милая тетушка, что вы заблуждаетесь
относительно превосходства нашего рода. Правда, и дворянство и титулы получены
нашими предками довольно давно, но род, потерявший свое имя и, так сказать,
отрекшийся от него, сменивший его на имя женщины, чужой по национальности и по
вере, — такой род утрачивает право гордиться своими старинными доблестями
и верностью своей стране».
Это замечание задело канониссу за живое, и, заметив, что
аббат насторожился, она сочла нужным возразить племяннику.
«Я не согласна с вами, дорогой мой, — сказала
она. — Не раз бывало, что какой-нибудь именитый род возвышался еще более,
присоединив к своему имени имя материнской линии, дабы не лишить своих
наследников чести происходить от женщины доблестного рода».
«Но здесь этот пример неприменим, — возразил Альберт с
несвойственной ему настойчивостью. — Я понимаю, что можно соединить два
славных имени. Я нахожу вполне справедливым, чтобы женщина передала детям свое
имя, присоединив его к имени мужа. Но полное уничтожение имени мужа кажется мне
оскорблением со стороны той, которая этого требует, и низостью со стороны того,
кто этому подчиняется».
«Альберт, вы вспоминаете события из слишком далекого
прошлого, — проговорила с глубоким вздохом канонисса, — и приводите
пример, еще менее удачный, чем мой. Господин аббат, слушая вас, мог подумать,
что какой-то мужчина, наш предок, был способен на низость. Раз вы так прекрасно
осведомлены о вещах, которые, как я думала, вам почти неизвестны, вы не должны
были делать подобное замечание по поводу политических событий… столь далеких от
нас, благодарение богу…»
«Если сказанное мною вам неприятно, тетушка, я сейчас
приведу факт, который смоет всякое позорное обвинение с памяти нашего предка
Витольда, последнего графа Рудольштадта. Это, мне кажется, очень интересует мою
кузину, — заметил он, видя, как я вытаращила на него глаза, пораженная
тем, что он, вопреки своей обычной молчаливости и философскому образу мыслей,
вдруг пустился в такой спор. — Да будет вам известно, Амелия, что нашему
прадеду Братиславу едва исполнилось четыре года, когда его мать, Ульрика
Рудольштадт, сочла нужным заклеймить его позором, — отняв у него его
настоящее имя, имя его отцов — Подебрад, и дав ему взамен то саксонское имя,
которое мы теперь носим вместе с вами: вы — не краснея, а я — не гордясь им».
«По-моему, совершенно бесполезно вспоминать о вещах, столь
далеких от нашей эпохи», — проговорил граф Христиан, которому, видимо,
было не по себе.
«Мне кажется, что тетушка заглянула в еще более далекое
прошлое, рассказывая нам про великие заслуги Рудольштадтов, и я не понимаю, что
дурного в том, если кто-нибудь из нас, случайно вспомнив, что он чех, а не
саксонец по происхождению, что его зовут Подебрад, а не Рудольштадт, станет
рассказывать о событиях, которые произошли всего каких-нибудь сто двадцать лет
тому назад».
«Я знал, — вмешался аббат, слушавший Альберта с большим
интересом, что ваш именитый род в прошлом был в родстве с королевским родом
Георгия Подебрада, но не подозревал, что вы прямые его потомки, имеющие право
носить его имя».
«Это потому, — ответил Альберт, — что тетушка, так
хорошо разбирающаяся в генеалогии, сочла нужным отсечь в своей памяти то
древнее и почтенное древо, от которого происходим мы. Но генеалогическое древо,
на котором кровавыми буквами занесена наша славная и мрачная история, еще
высится на соседней горе».
Так как, говоря это, Альберт оживлялся все больше и больше,
а лицо дяди делалось все мрачнее, аббат, хотя в нем и было задето любопытство,
попробовал было переменить разговор. Но мое любопытство было слишком сильно.
«Что вы хотите сказать этим, Альберт? — воскликнула я,
подходя к нему.
«Я хочу сказать то, что каждый из рода Подебрадов должен был
бы знать, — ответил он. — Я хочу сказать, что на старом дубе скалы
Ужаса, на который вы ежедневно смотрите из своего окна, Амелия, и под сень
которого я советую вам никогда не садиться, не сотворив молитвы, триста лет
тому назад висели плоды потяжелее тех высохших желудей, которые теперь почти не
растут на нем».
«Это ужасная история, — пробормотал перепуганный
капеллан, — не понимаю, кто мог об этом рассказать графу Альберту».
«Местное предание, а быть может, нечто еще более
достоверное, — ответил Альберт. — Как ни сжигай семейные архивы и
исторические документы, господин капеллан, как ни воспитывай детей в неведении
минувшего, как ни заставляй молчать простодушных людей с помощью софизмов, а
слабых — с помощью угроз, — ни страх пред деспотизмом, ни боязнь ада не
могут заглушить тысячи голосов прошлого, они несутся отовсюду. Нет! Нет! Они
слишком громки, эти ужасные голоса, чтобы слова священника могли заставить их
умолкнуть. Когда мы спим, они говорят нашим душам устами призраков,
поднимающихся из могил, дабы предупредить нас; мы слышим эти голоса среди шума
природы; они, как некогда голоса богов в священных рощах, исходят даже из
древесных стволов, чтобы рассказать нам о преступлениях, о несчастьях и
подвигах наших отцов…»
«Зачем, мой бедный мальчик, ты мучаешь себя такими
горестными мыслями и роковыми воспоминаниями? — проговорила канонисса.
«Это ваша генеалогия, тетушка, это путешествие, которое вы
только что совершили в прошлые века, — это они пробудили во мне
воспоминание о пятнадцати монахах, собственноручно повешенных на ветвях дуба
одним из моих предков… Да, моим предком, самым великим, самым страшным, самым
упорным, — тем, кого звали „Грозный слепец“, непобедимый Ян Жижка,
поборник чаши!»
Громкое, ненавистное имя главы таборитов — сектантов,
которые во время Гуситских войн превосходили своей энергией, храбростью и
жестокостью всех остальных реформатов, поразило, как удар грома, обоих
священников. Капеллан даже осенил себя крестным знамением, а тетушка, сидевшая
рядом с Альбертом, невольно отодвинулась от него.
«Боже милостивый! — воскликнула она. — Да о чем и
о ком говорит этот мальчик? Не слушайте его, господин аббат! Нет, никогда,
никогда наша семья не имела ничего общего с тем окаянным, гнусное имя которого
он только что произнес».
«Говорите за себя, тетушка, — решительно возразил
Альберт. — Вы — Рудольштадт в душе, хотя в действительности происходите от
Подебрадов. Но в моих жилах течет на несколько капель больше чешской крови и на
несколько капель меньше крови иностранной. В родословном древе моей матери не
было ни саксонцев, ни баварцев, ни пруссаков; она была чистой славянской расы.
Вы, тетушка, по-видимому, не интересуетесь благородным происхождением, на
которое не можете претендовать, а я, дорожа своим личным славным
происхождением, могу сообщить вам, если вы не знаете, и напомнить вам, если вы
забыли, что у Яна Жижки была дочь, которая вышла замуж за графа Прахалица, и
что мать моя, будучи сама Прахалиц, — потомок по прямой женской линии Яна
Жижки так точно, как вы, тетушка, — потомок Рудольштадтов».
«Это бред, это заблуждение, Альберт…»
«Нет, дорогая тетушка, это вам может подтвердить господин
капеллан, человек правдивый, богобоязненный; у него в руках были дворянские
грамоты, удостоверяющие это».
«У меня? — вскричал капеллан, бледный как мертвец.
«Вы можете в этом сознаться, не краснея перед господином
аббатом, — с горькой иронией ответил Альберт. — Вы только исполнили
свой долг католического священника и австрийского подданного, когда сожгли эти
документы на следующий день после смерти моей матери».
«Моя совесть повелела мне тогда сжечь их, но свидетелем
этого был один господь, — проговорил капеллан, еще больше бледнея. —
Граф Альберт, скажите, кто мог вам это открыть?»
«Я уже сказал вам, господин капеллан: голос, говорящий
громче, чем голос священника».
«Что это за голос, Альберт? — спросила я, сильно
заинтересованная.
«Голос, говорящий во время сна», — ответил Альберт.
«Но это ничего не объясняет, сын мой», — сказал граф
Христиан задумчиво и грустно.
«Голос крови, отец мой! — ответил Альберт тоном,
заставившим всех нас вздрогнуть.
«О боже мой! — воскликнул дядя, молитвенно сложив
руки. — Опять те же сны, опять та же игра больного воображения, которые
когда-то так терзали его бедную мать. — И, наклонившись к тетушке, он тихо
прибавил: — Должно быть, во время своей болезни она обо всем этом говорила при
ребенке, и, очевидно, это запечатлелось в его детском мозгу».
«Это невозможно, братец, — ответила канонисса, —
Альберту не было и трех лет, когда он потерял мать».
«Вероятнее всего, — вполголоса заговорил
капеллан, — что в доме могло сохраниться что-нибудь из тех проклятых
еретических писаний, полных лжи и безбожия, которые она хранила в силу семейных
традиций. Тем не менее перед смертью у нее хватило нравственных сил
пожертвовать ими».
«Нет, от них ничего не сохранилось, — проговорил
Альберт, не пропустивший ни одного слова, сказанного капелланом, несмотря на
то, что тот говорил очень тихо, а молодой граф, возбужденно прохаживавшийся по
большой гостиной, в это время был на другом ее конце. — Вы сами прекрасно
знаете, господин капеллан, что вы уничтожили все и что на следующий день после
ее кончины вы все обыскали и перерыли в ее комнате».
«Откуда ты все это взял, Альберт? — строго спросил граф
Христиан. Какой вероломный или безрассудный слуга вздумал смутить твой юный ум,
рассказав, несомненно в преувеличенном виде, об этих семейных событиях?» «Ни
один из слуг мне этого не говорил, отец, клянусь моей верой и совестью».
«Значит, это дело рук врага рода человеческого», —
пробормотал с ужасом капеллан.
«Пожалуй, более правдоподобно и более по-христиански, —
вставил аббат, — допустить, что граф Альберт одарен исключительной памятью
и что события, которые обыкновенно проходят для детей бесследно, запечатлелись
в его мозгу. Убедившись в редком уме графа, я могу легко предположить, что он
развился чрезвычайно рано, а память его поистине необыкновенна». «Память моя
вам кажется такой необыкновенной лишь потому, что вы сами совершенно лишены
ее, — возразил сухо Альберт. — Например, вы не помните, что вы делали
в тысяча шестьсот девятнадцатом году, после того как мужественный, верный
протестант Витольд Подебрад (ваш дед, дорогая тетушка), последний предок,
носивший наше имя, обагрил своей кровью скалу Ужаса. Бьюсь об заклад, господин
аббат, что вы забыли о вашем поведении при этих обстоятельствах».
«Признаюсь, совершенно забыл», — ответил аббат с
насмешливой улыбкой, что было не очень благовоспитанно в ту минуту, когда нам
всем стало ясно, что Альберт бредит.
«В таком случае, я вам напомню, — сказал Альберт,
ничуть не смущаясь. — Вы начали с того, что поспешили дать совет
императорским солдатам, только что прикончившим Витольда Подебрада, бежать или
спрятаться, так как вы знали, что пильзенские рабочие, имевшие мужество
признавать себя протестантами и обожавшие Витольда, уже шли отомстить за смерть
своего повелителя, готовясь растерзать в клочья его убийц. Затем вы отправились
к моей прабабке Ульрике, дрожащей и запуганной вдове Витольда, и предложили ей
прощение императора Фердинанда Второго, сохранение ее поместий, титулов,
свободы, жизни ее детей — при условии, если она последует вашим советам и
оплатит ваши услуги золотом. Она согласилась на это: материнская любовь
толкнула ее на такой малодушный поступок. Она не почтила мученической кончины
благородного супруга. Она родилась католичкой и отреклась от своей веры только
из любви к мужу. Она не нашла в себе сил пойти на нищету, изгнание, гонения
ради того, чтобы сохранить детям веру, которую их отец только что запечатлел
своей кровью, и сохранить им то имя, которое он прославил больше всех своих
предков — гуситов, каликстинов, таборитов, сирот, союзных братьев и лютеран».
(Все это, милая Порпорина, названия еретических сект, существовавших во времена
Яна Гуса и Мартина Лютера; к ним, по-видимому, принадлежала и та ветвь рода
Подебрадов, от которой происходим мы.) «Словом, — продолжал
Альберт, — саксонка испугалась и уступила. Вы завладели замком, вы
заставили императорских солдат покинуть его, вы спасли наши поместья. На
огромном костре вы сожгли все наши грамоты, весь наш архив. Вот почему моей
тетушке, на ее счастье, не удалось восстановить родословное древо Подебрадов, и
она нашла себе пищу более удобоваримую — родословную Рудольштадтов. За ваши
труды вы получили большую награду, — вы разбогатели, очень разбогатели.
Три месяца спустя Ульрике было разрешено отправиться в Вену и припасть к стопам
императора, который тут же милостиво разрешил ей переменить подданство ее
детей, воспитывать их под вашим руководством в католической вере, а в будущем
отдать на военную службу и позволить сражаться под теми знаменами, против
которых так мужественно боролись их отец и деды. Словом, я и мои сыновья, мы
были зачислены в ряды войск австрийского тирана…»
«Ты и твои сыновья!.. — с отчаянием воскликнула
тетушка, видя, что он совсем заговаривается.
«Да, мои сыновья: Сигизмунд и Рудольф», — ответил
пресерьезно Альберт.
«Это имена моего отца и дяди, — пояснил граф
Христиан. — Альберт, в уме ли ты? Очнись, сын мой! Больше столетия
отделяет нас от этих горестных событий, совершившихся по воле божьей…»
Альберт стоял на своем. Он внушил себе и хотел убедить и нас
в том, что он — Братислав, сын Витольда, и первый из Подебрадов, носивший
материнское имя — Рудольштадт. Он рассказал нам о своем детстве и о пытках
графа Витольда, о которых он сохранил самое ясное воспоминание. Виновником
мученической смерти Витольда он считал иезуита Дитмара (которым, по его мнению,
был не кто иной, как аббат-гувернер). Он говорил также о глубокой ненависти,
которую испытывал в детстве к этому Дитмару, к Австрии, к императорской
династии и к католикам. Затем его воспоминания стали как-то путаться; он стал
плести массу непонятных вещей о вечной и непрерывной жизни, о возвращении людей
с того света на землю, основываясь при этом на веровании гуситов: будто Ян Гус
через сто лет после своей смерти вернется в Богемию, чтобы закончить начатое
дело. По словам Альберта, предсказание это исполнилось, так как, уверял он,
Лютер — это воскресший Ян Гус. Одним словом, в его речах была какая-то странная
смесь ереси, суеверия, мрачной метафизики и поэтического бреда. И все это
говорилось так убедительно, с такими точными, интересными подробностями
событий, которых он якобы был свидетелем и которые касались не только
Братислава, но и Яна Жижки и многих других умерших (он уверял, что все это —
его собственные прошлые воплощения), что мы молчали, пораженные, не решаясь ни
остановить его, ни противоречить ему. Дядя и тетушка, ужасно страдавшие от
этого, по их мнению, нечестивого безумия, тем не менее хотели до конца
разобраться в нем; ведь безумие Альберта впервые обнаружилось так открыто, и
надо же было знать источник беды, чтобы потом иметь возможность с ней бороться.
Аббат пытался было обратить все в шутку, уверяя, что граф Альберт, забавник и
насмешник, тешит себя, мистифицируя нас своей эрудицией.
«Он так много читал, — говорил он, — что был бы в
состоянии таким вот образом, глава за главой, рассказать нам историю всех
веков, притом с такими подробностями, с такой точностью, что люди, склонные
верить в чудесное, могли бы подумать, будто он действительно сам присутствовал
при всех описанных им сценах».
Канонисса, которая при всей своей пламенной набожности была
склонна к суеверию и уже начинала верить племяннику на слово, отнеслась очень
неприязненно к разглагольствованиям аббата и посоветовала ему приберечь свои
шуточные пояснения до более веселого случая; затем она стала всячески пытаться
вернуть племянника к действительности.
«Берегитесь, тетушка, — нетерпеливо ответил Альберт на
ее увещания, — берегитесь, чтобы я вам не сказал, кто вы такая. До сих пор
я гнал от себя эту мысль, но что-то говорит мне, что подле меня стоит сейчас
саксонка Ульрика».
«Так вы думаете, бедное дитя мое, — ответила
канонисса, — что эта благоразумная, самоотверженная прабабка, сумевшая
сохранить своим детям жизнь, а потомкам независимость, состояние, почести —
все, чем они теперь пользуются, — вы думаете, что она возродилась снова во
мне? Знайте же, Альберт, я так люблю вас, что в состоянии была бы сделать даже
больше, чем она. Я пожертвовала бы своей жизнью, если бы этой ценой могла
исцелить ваш помутившийся рассудок».
Альберт некоторое время молча смотрел на тетку, и в его
взгляде сквозь суровость проглядывала нежность.
«Нет, нет, — сказал он наконец, подходя к ней и
опускаясь у ее ног на колени, — вы ангел, и некогда вы причастились из
деревянной чаши гуситов. А все-таки саксонка здесь: ее голос сегодня доносился
до меня несколько раз».
«Предположите, что это я, Альберт, — проговорила я,
пытаясь его развеселить, — только не очень сердитесь на меня за то, что я
не предала вас палачам в тысяча шестьсот девятнадцатом году».
«Вы — моя мать! — воскликнул он, глядя на меня
страшными глазами. Не говорите мне этого, так как я не могу вам простить.
Господь возродил меня от более сильной женщины, он закалил кровью Жижки мое естество,
сбившееся с правильного пути. Амелия, не смотрите на меня, а главное, не
говорите со мной! Это ваш голос, Ульрика, причинил мне сегодня все эти
страдания!»
С этими словами Альберт стремительно вышел, оставив нас в
самом угнетенном состоянии, ибо мы с горечью убедились в расстройстве его ума.
Было два часа пополудни. Перед этим мы спокойно отобедали. За обедом ничего,
кроме воды, Альберт не пил, так что его безумные речи никак нельзя было
объяснить опьянением. Тетушка с капелланом сейчас же побежали за ним вслед:
считая его тяжелобольным, они хотели чем-нибудь помочь ему. Но — непостижимая
вещь! — Альберт исчез, как по волшебству. Его нигде не могли найти: ни в
его комнате, ни в комнате матери, где он часто запирался, ни в одном из
закоулков замка. Его всюду искали — в саду, у речного заповедника, в окрестных
лесах, в горах. Ни один человек не видел его ни вблизи, ни издали. Даже следов
его не могли найти. Никто в замке в эту ночь не ложился спать. Слуги с факелами
до самого рассвета искали его.
Все семейство молилось. Следующий день прошел в той же
тревоге, а следующая ночь — в том же унынии. Не умею вам выразить, в каком
ужасе я была — ведь до сих пор я ни разу не испытала подобных волнений и не
переживала столь важных семейных событий. Я была убеждена, что Альберт лишил
себя жизни или бежал навсегда. Со мной сделался нервный припадок, меня трясла
лихорадка. Несмотря на ужас, внушаемый мне этим странным, роковым человеком, во
мне все еще жил остаток любви к нему. У моего отца хватило сил отправиться на
охоту: он воображал, что где-то в глубине лесов нападет на след Альберта.
Бедная моя тетушка, терзаемая горем, не падала духом, была деятельна,
мужественна, ухаживала за мной и старалась всех успокоить. Дядя молился день и
ночь. Видя его горячую веру и стоическую покорность воле божьей, я пожалела,
что не набожна.
Аббат делал вид, будто немного грустит, но уверял, что
совершенно спокоен. «Надо правду сказать, — говорил он, — граф
Альберт во время наших путешествий ни разу так надолго не исчезал, но иногда у
него бывала потребность в уединении и духовном созерцании». По мнению аббата,
лучшее средство против странностей молодого графа заключалось в том, чтобы
никогда ему не перечить и делать вид, будто ничего не замечаешь. На самом же
деле этот интриган и величайший эгоист был заинтересован исключительно в
получении большого жалованья и потому старался как можно дольше протянуть срок
своего пребывания в гувернерах, вводя семью в заблуждение и приписывая себе
несуществующие заслуги. Занятый своими делами и развлечениями, он предоставлял
Альберта самому себе и, видимо, совершенно не препятствовал развитию его
странностей. Очень возможно, что он не раз видел его больным и возбужденным.
Несомненно одно, что аббат умел скрывать эти странности от всех, кто бы мог сообщить
нам о них. Все письма, полученные дядей от друзей, были полны поздравлений по
поводу достоинств его красавца сына и похвал в его адрес. Очевидно, Альберт
нигде и ни на кого не производил впечатления больного или не вполне нормального
человека. Как бы то ни было, его внутренняя жизнь за все эти восемь лет
странствований являлась для нас непроницаемой тайной.
По прошествии трех суток, видя, что Альберт все не
появляется, и опасаясь, как бы это происшествие не повредило его собственным
делам, аббат собрался ехать в Прагу, якобы на поиски молодого графа, который,
по его мнению, мог разыскивать в этом городе какую-нибудь книгу.
«Альберт подобен ученым, — говорил он, — которые
так погружены в свои изыскания, что для удовлетворения своей невинной страсти
готовы забыть весь мир».
Засим аббат уехал и более не вернулся.
После целой недели мучительной тревоги, когда мы стали уже
совсем отчаиваться, тетушка, проходя мимо комнаты Альберта, вдруг увидела в
открытую дверь, что он преспокойно сидит в кресле и гладит собаку,
сопровождавшую его в таинственном путешествии. На его платье не видно было ни
грязи, ни дыр, только золотое шитье потемнело, словно он был в сыром месте или
проводил ночи под открытым небом. Обувь его также была в порядке, —
видимо, он ходил не много. Только борода и волосы свидетельствовали о том, что
он давно ими не занимался. С этого дня, надо сказать, он перестал бриться и
пудрить волосы, как другие мужчины, — вот почему он вам, Нина, и показался
привидением.
Тетушка с криком бросилась к нему.
«Что с вами, милая тетушка? — спросил он, целуя ей
руку. — Можно подумать, что вы меня целый век не видели».
«Бедный мой мальчик, — воскликнула она, — ведь ты
пропадал целую неделю, ни словом нас не предупредив! Вот уже семь смертельных
дней, семь смертельных ночей, как мы тебя ищем, плачем о тебе, за тебя
молимся». «Семь дней? — повторил Альберт, с удивлением глядя на
нее. — То есть вы хотите сказать, милая тетушка, — семь часов? Ведь я
только сегодня утром ушел на прогулку и, как видите, вернулся, не опоздав к
ужину. Неужели я мог до такой степени встревожить вас столь коротким
отсутствием?» «Да, конечно, — проговорила канонисса, боясь ухудшить
болезненное состояние племянника, раскрыв ему правду. — Это я обмолвилась:
я хотела сказать семь часов. А беспокоилась я потому, что ты не привык к таким
длинным прогулкам; к тому же я видела сегодня ночью дурной сон, и это вывело
меня из равновесия».
«Милая тетушка, чудесный мой друг! — нежно проговорил
Альберт, целуя ее руки. — Вы меня любите, как малого ребенка. Но отец,
надеюсь, не беспокоился?»
«Ничуть не беспокоился, ждет тебя ужинать. Воображаю, как
ты, должно быть, голоден».
«Не очень: я ведь хорошо пообедал».
«Где и когда, Альберт?»
«Да здесь, сегодня, с вами, милая тетушка. Но я вижу, что вы
все еще не пришли в себя. Как я огорчен, что так напугал вас. Но мог ли я это
предвидеть?»
«Ну, ведь ты меня знаешь. Лучше расскажи, где ты кушал и где
спал с того времени, как ушел из дома».
«С сегодняшнего утра? Да как же я мог хотеть спать, как мог
проголодаться?»
«А скажи, тебе не нездоровится?»
«Ничуть».
«Ты не устал? Ты, должно быть, много ходил, взбирался на
горы? Это очень утомительно. Где же ты был?»
Альберт прикрыл глаза рукой, как бы силясь вспомнить, но не
смог. «Признаться, ничего не помню, — наконец проговорил он. — Уж
очень я был занят своими мыслями. Я шел, ничего не замечая, как, помните,
бывало в детстве. Ведь я никогда не мог ответить ни на один из ваших вопросов».
«Ну, а во время своих путешествий ты обращал внимание на то, что видел?»
«Иногда, но не всегда. Я многое наблюдал, но многое и забыл,
слава богу».
«А почему „слава богу“?»
«Да потому, что на земле приходится видеть ужасные
вещи», — ответил он, вставая с мрачным видом, которого до сих пор тетушка
не замечала в Нем. Тут она поняла, что не следует больше заставлять его
говорить, и поспешила к дяде сообщить, что сын его нашелся. Никто в доме еще не
знал этого, никто не видел, как он вернулся. Он так же незаметно появился, как
исчез.
Бедный дядя, столь мужественно переносивший все
предшествующие мучения, не выдержал такой радости, — с ним сделался
обморок. Так что, когда Альберт вошел, отец выглядел хуже сына. Альберт,
который после своих долгих путешествий обычно ничего не замечал из
происходившего вокруг, в этот вечер казался совсем другим. Он был очень нежен с
отцом, встревожился его плохим видом, допытывался, что тому причиной. Когда же
ему рискнули намекнуть на то, что довело его отца до такого состояния, он
ничего не понял, и из его искренних ответов было видно, что он решительно
ничего не помнит о своем исчезновении, длившемся неделю.
— То, что вы мне рассказываете, положительно похоже на
сон, милая баронесса, — проговорила Консуэло. — Это способно не
усыпить меня, как вы ожидали, а свести с ума. Мыслимо ли, чтобы человек прожил
целую неделю, ничего не сознавая?
— И представьте, это ничто по сравнению с тем, что вы
еще услышите от меня. Я прекрасно понимаю, что вам трудно поверить мне, пока вы
собственными глазами не убедитесь, что я не только ничего не преувеличиваю, но,
напротив, о некоторых вещах умалчиваю, чтобы сократить свой рассказ. Знайте, я
говорю вам лишь о том, что видела собственными глазами, и все-таки иногда
спрашиваю себя: что же такое Альберт — колдун или человек, издевающийся над
нами? Однако поздно; боюсь, что я злоупотребляю вашей любезностью.
— Нет, это я злоупотребляю вашей, — ответила
Консуэло. — Вы, должно быть, очень устали. Хотите, отложим до завтра
продолжение этой невероятной истории?
— Хорошо. Итак, до завтра, — сказала юная
баронесса, обнимая ее.
|


