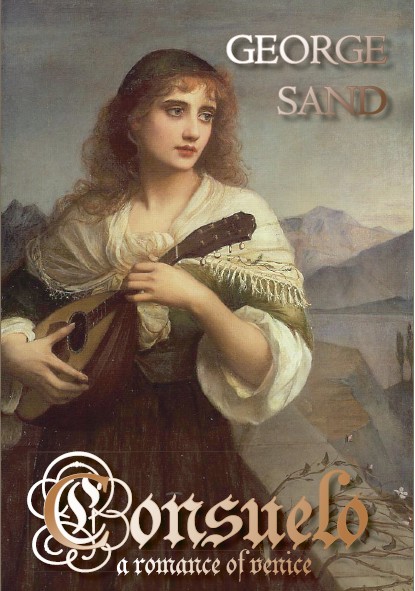
 Увеличить Увеличить |
Глава 49
Ошеломленная канонисса не посмела ответить племяннику ни
слова. В выражении его лица, во всей его осанке была такая непреклонность, что
добрейшая тетка даже испугалась и инстинктивно, с необыкновенной готовностью и
образцовой аккуратностью начала исполнять все его желания. Доктор, видя, что
его авторитет решительно не признается, и не рискуя вступать в препирательства
с буйнопомешанным, как он потом рассказывал, благоразумно удалился. Капеллан
отправился молиться. Альберт же с помогавшими ему теткой и двумя служанками
провел весь день в комнате Консуэло, ни на минуту не ослабляя своего ухода за
ней. После нескольких часов спокойствия у больной снова повторился припадок, но
только более короткий. Когда благодаря сильным успокоительным средствам
припадок затих, Альберт стал уговаривать тетку пойти соснуть и прислать
какую-нибудь женщину на смену двум служанкам, которым тоже нужно было
отдохнуть.
— А вы, Альберт, разве не хотите отдохнуть? —
робко спросила Венцеслава.
— Нет, дорогая тетушка, я совершенно не нуждаюсь в
отдыхе.
— Увы, — ответила она, — вы себя убиваете,
дитя мое… Дорого же нам обойдется эта иностранка! — добавила, уходя к
себе, расхрабрившаяся старушка, заметив, что молодой граф не слушает ее.
Все же Альберт согласился немного перекусить, чтобы
набраться сил, которые, он чувствовал, могли ему понадобиться. Он поел в
коридоре стоя и не спуская глаз с двери. Кончив, он бросил салфетку на пол и
вернулся в комнату больной, затем наглухо закрыл дверь к Амелии, чтобы те
немногие лица, которых он допускал, проходили коридором. Тем не менее Амелия
сделала вид, будто хочет ухаживать за подругой. Но она бралась за все так
неловко, приходила в такой ужас от всякого движения больной, так боялась новых
судорог, что Альберт, выйдя из себя, попросил ее ни во что не вмешиваться, идти
в свою комнату и заняться своими делами.
— В мою комнату? — отвечала Амелия. — Если бы
даже приличие и позволяло мне спать в комнате, отделенной от вас одной
дверью, — ведь вы, можно сказать, поселились у меня, — то неужели вы
думаете, что я в состоянии заснуть хоть на минуту, слыша эти раздирающие душу
вопли, эту страшную агонию?
Альберт, пожав плечами, ответил ей, что в замке много других
комнат и что она может выбрать любую, пока больная не будет перенесена в
помещение, где ее соседство никого не обеспокоит.
Раздосадованная Амелия последовала этому совету. Тяжелее
всего ей было смотреть на нежные, можно сказать материнские заботы, которыми
Альберт окружал ее соперницу.
— Ах, тетушка! — воскликнула она, бросаясь на шею
канониссы, когда та устроила ее в собственной спальне, где велела поставить еще
одну кровать рядом со своей. — Мы с вами не знали Альберта: теперь мы
видим, как он умеет любить!
Несколько дней Консуэло была между жизнью и смертью. Но
Альберт боролся с недугом так упорно и так искусно, что наконец ему удалось
победить его. Как только девушка оказалась вне опасности, он велел перенести ее
в одну из башен замка. Здесь дольше бывало солнце, и вид отсюда был красивее и
шире, чем из других окон. Вообще комната эта со своей старинной мебелью более
соответствовала серьезным вкусам Консуэло, чем та, куда нашли нужным поместить
ее по приезде, и уже давно можно было понять из ее слов, что ей хотелось бы
жить там. Здесь ей не угрожала назойливость подруги, и, несмотря на постоянное
присутствие женщины, сменявшейся утром и вечером, она могла проводить в
сущности наедине со своим спасителем томительные и сладостные дни своего
выздоровления. Они всегда говорили по-испански: нежные слова, осторожно выражавшие
страсть Альберта, были милее для слуха Консуэло на языке, напоминавшем ей
родину, мать, детство. Преисполненная горячей благодарности, измученная
страданиями, от которых избавил ее один Альберт, она теперь предавалась тому
дремотному покою, который наступает после тяжкого кризиса. Память ее
мало-помалу пробуждалась, но как-то неравномерно. Так, например, живо
припоминая с чистой и понятной радостью помощь и самоотверженность Альберта в
главные моменты их встреч, она в то же время как-то неясно, как бы сквозь
густое облако, прозревала заблуждения его рассудка и всю глубину его слишком
серьезной страсти. Бывали часы, когда после сна или приема успокоительного
лекарства все, что возбуждало в ней прежде недоверие и страх к ее великодушному
другу, представлялось ей каким-то бредом. Она до того привыкла к нему и его
заботам о себе, что, когда он уходил, по ее же просьбе, обедать со своей
семьей, она волновалась и плохо себя чувствовала, пока он отсутствовал. Ей
казалось, что успокоительные средства, приготовленные и поданные не им самим,
производят на нее обратное действие; когда же он сам подносил их ей, она с
медленной и полной значения улыбкой, удивительно трогательной на красивом лице,
с которого еще не совсем исчезла тень смерти, говорила:
— Теперь, Альберт, я верю, что вы чародей: стоит вам
повелеть капле воды оказать на меня благотворное действие, и она моментально
передает мне и ваше спокойствие и вашу силу.
Впервые в жизни Альберт был счастлив; а так как душа его,
казалось, была способна с такой же силой чувствовать радость, с какой она
чувствовала скорбь, то в этот период его жизни, период восторгов и упоения, он
был счастливейшим человеком на земле. Комната, где он во всякое время, без
докучных свидетелей, мог видеть любимую, стала для него раем. Ночью, когда все
в доме ложились спать, он, делая вид, будто тоже идет к себе, тихонько
пробирался в эту комнату. Сиделка, которой поручено было следить за больной,
крепко спала, он прокрадывался к кровати своей дорогой Консуэло, глядел и не
мог наглядеться на нее, спящую, бледную, поникшую, словно цветок после бури.
Потом он усаживался в большое кресло (уходя, он никогда не забывал поставить
его у постели больной) и проводил в нем всю ночь, засыпая таким чутким сном,
что стоило Консуэло пошевельнуться, как он уже нагибался над нею и
прислушивался к тому, что она бормотала слабым голосом; а когда девушка,
взволнованная каким-нибудь сном, тревожимая остатками прежних страхов, искала
его руки, дружеское пожатие всегда готово было ее успокоить. Если сиделка просыпалась,
Альберт обыкновенно говорил ей, что только что вошел, и у той создалось
впечатление, что молодой граф раза два-три в ночь навещает свою больную. А
между тем он и получаса за всю ночь не проводил в своей комнате. Консуэло, так
же как и сиделка, ошибалась на этот счет, — хотя она чаще замечала
присутствие Альберта, но была еще так слаба, что ему ничего не стоило ввести ее
в заблуждение насчет продолжительности своих посещений. Иногда среди ночи,
когда она начинала умолять его идти спать, он уверял ее, что уже близок рассвет
и что он только что встал. Благодаря этим невинным обманам Консуэло, никогда не
страдая от его отсутствия, в то же время не беспокоилась по поводу того
утомления, которому он подвергал себя ради нее.
Правда, несмотря на все, усталость его была так
незначительна, что он даже не замечал ее. Любовь дает силы самым слабым, а у
Альберта был исключительно крепкий организм, да к тому же никогда в сердце
человеческом не жила такая огромная, живительная любовь, как теперь у него.
Когда с первыми лучами солнца Консуэло с трудом добиралась до своей кушетки,
стоявшей у полуоткрытого окна, Альберт усаживался позади нее и в мчавшихся
облаках и пурпурных лучах восходящего солнца силился прочесть те мысли, которые
вид неба мог пробудить в его молчаливой подруге. Иногда он незаметно брал в
руки кончик тонкого шарфа, который она набрасывала себе на голову и который
теплый ветерок развевал по спинке кушетки, и, склонив голову, словно отдыхая,
тихо прижимался к нему губами. Однажды Консуэло, потянув шарф к себе на грудь,
обратила внимание на то, что конец его теплый и влажный. Обернувшись с большей
живостью, чем она это делала обычно во время болезни, она увидела своего друга
в необыкновенно возбужденном состоянии: щеки его пылали, глаза горели лихорадочным
огнем, он тяжело дышал. Альберт мгновенно овладел собой, но все-таки успел
прочесть испуг на лице Консуэло. Это глубоко опечалило его. Он предпочел бы
увидеть в ее глазах презрение и суровость, чем признаки страха и недоверия. Он
решил следить за собой настолько внимательно, чтобы никогда больше
воспоминанием о своем безумии не потревожить ту, которая исцелила его от этого
безумия почти ценою собственной жизни и рассудка.
Он добился этого благодаря силе воли, какой, пожалуй, не
нашел бы в себе и более уравновешенный человек. Он уже давно привык сдерживать
пыл своих чувствований, борясь с частыми и таинственными приступами своего
недуга, и окружающие даже не подозревали, как велика была его власть над собой.
Они не знали, что чуть ли не каждый день ему приходилось подавлять сильнейшие
припадки и что только окончательно сокрушенный глубочайшим отчаянием и безумием
он убегал в свою неведомую пещеру, оставаясь победителем даже в своем
поражении, так как все же был в состоянии скрыть от людских взоров свое падение.
Альберт принадлежал к числу безумцев, достойных самой глубокой жалости и самого
глубокого уважения: он знал о своем безумии и чувствовал его приближение вплоть
до момента, когда бывал всецело им охвачен. Но даже и тут, в самый разгар своих
припадков, он сохранял смутное воспоминание о действительном мире и не желал
показываться, пока окончательно не придет в себя. Такое воспоминание о реальной
деятельной жизни мы все храним, когда тяжелые сновидения погружают нас в жизнь
вымысла и бреда. Мы боремся порой с этими ночными страхами и кошмарами, мы
говорим себе, что это бред, и пытаемся проснуться, но какая-то злая сила вновь
и вновь захватывает нас и снова повергает в ту страшную летаргию, где нас
осаждают и терзают зловещие и мучительные видения.
В подобных чередованиях протекала насыщенная бурными
переживаниями и вместе с тем жалкая жизнь этого непонятного человека; спасти
его от страданий могло только сильное, тонкое и нежное чувство. И такое чувство
появилось наконец в его жизни. Консуэло была как раз такою чистой душою,
которая, казалось, была создана для того, чтобы проникнуть в эту мрачную душу,
до сих пор недоступную для глубокой любви. В заботливости молодой девушки,
порожденной вначале романтическим энтузиазмом, в ее почтительной дружбе,
вызванной признательностью за самоотверженный уход за нею во время болезни,
было нечто пленительное и трогательное, нечто такое, что господь счел, видимо,
особенно подходящим для исцеления Альберта. Весьма возможно, что, если бы
Консуэло откликнулась, позабыв о прошлом, на его пылкую любовь, эти новые для
него восторги и внезапная безмерная радость могли бы повлиять на него самым
печальным образом. Но ее застенчивая, целомудренная дружба должна была
медленно, но более верно способствовать его исцелению. Это являлось одновременно
и уздою и благодеянием для него; и если обновленное сердце молодого человека
было опьянено, то к опьянению примешивалось чувство долга, жажда
самоотвержения, дававшие его мыслям иную пищу, а его воле — иную цель, нежели
та, которая поглощала его до сих пор. Он испытывал одновременно и счастье быть
любимым так, как никогда еще не был любим, и горе не быть любимым с такою
страстью, какую испытывал сам, и, наконец, страх, что потеряет это счастье,
если покажет, что он не вполне им удовлетворен. Все эти чувства до такой
степени заполняли его душу, что в ней не оставалось места для фантазий, на
которые так долго наталкивали его бездействие и одиночество. Теперь он, словно
по волшебству, избавился от этих мечтаний, он забыл о них, и образ любимой удерживал
его несчастья на расстоянии, встав, словно небесный щит, между ним и ими.
Итак, отдых для ума и покой для чувств, необходимые для
восстановления сил юной больной, теперь лишь изредка и ненадолго нарушались
тайным волнением ее врача. Консуэло, как мифологический герой, спустилась в
преисподнюю, чтобы вывести из нее своего друга, — и вынесла оттуда для
себя самой ужас и безумие. Теперь он, в свою очередь, старался освободить ее от
мрачных мыслей, и благодаря его нежным заботам и страстной почтительности ему
это удалось. Опираясь друг на друга, они вступали вместе в новую жизнь, не
смея, однако, оглядываться назад и думать о той бездне, откуда они вырвались.
Будущее было для них новою бездной, не менее таинственной и ужасной, куда они
тоже не отваживались заглядывать. Зато они могли спокойно наслаждаться
настоящим, этим благодатным временем, которое им ниспослало небо.
|


