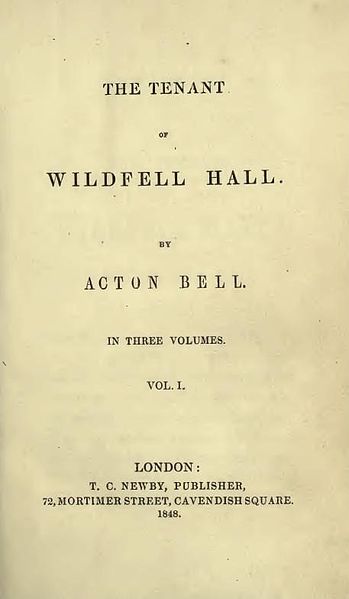
 Увеличить Увеличить |
Глава L
СОМНЕНИЯ И
РАЗОЧАРОВАНИЯ
Прочитав
это, я не имел причин скрывать от Фредерика Лоренса свою радость и надежды, так
как в них не было ничего предосудительного, – радовался я лишь избавлению
его сестры от тягостных, изнурительных забот и надеялся только, что время
исцелит ее от их последствий и до конца своих дней она обретет хотя бы душевный
мир и покой. Я испытывал болезненную жалость к ее злополучному мужу (хотя
прекрасно понимал, что все свои страдания он навлек на себя сам и вполне их
заслуживал) и величайшее сочувствие к ее несчастьям, а также глубокую тревогу
при мысли о возможных последствиях этих изнурительных забот, этих страшных
бдений, этого непрерывного и вредоносного пребывания рядом с живым трупом – у
меня ведь не было сомнений, что о большей части того, что ей выпало перенести,
она умолчала.
– Вы
поедете к ней, Лоренс? – спросил я, возвращая ему письмо.
– Да.
Немедленно.
– Прекрасно.
Так я прощусь с вами, чтобы не мешать вашим сборам.
– Они
были закончены, пока вы читали письмо, а начаты еще до вашего прихода. Экипаж
уже подан.
Горячо
одобрив такую поспешность, я пожелал ему доброго утра и ушел. Пока мы пожимали
друг другу руки, он внимательно посмотрел мне в лицо, но чего бы ни ждал там
различить, увидел лишь отвечающую случаю серьезность и, может быть, легкую
досаду – на мысли, которые, как я заподозрил, промелькнули у него в голове.
Но забыл
ли я свои мечтания, пылкую любовь, упрямые надежды? Казалось кощунством думать
о них в такое время, и все-таки я их помнил. Однако когда я сел на лошадь и
медленно направился к себе домой, то размышлял лишь о несбыточности этих
мечтаний, обманчивости надежд и тщете моей мысли. Миссис Хантингдон теперь
свободна, думать о ней более не преступно, но думает ли она обо мне? О,
разумеется, не сейчас, об этом и речи быть не может! Но вспомнит ли она обо
мне, когда потрясение пройдет? Во всех письмах к брату – «нашему взаимному
другу», как она сама его назвала, я был упомянут лишь раз, причем в ответ на
прямой вопрос. Уж одно это давало достаточный повод подозревать, что я позабыт.
Но мало того. Молчать она могла по требованию долга, только пытаясь меня
забыть, однако во мне крепло угрюмое убеждение, что ужасы, которые она видела и
перечувствовала, примирение с тем, кого она когда-то любила, его страшные
смертные муки должны были неминуемо изгладить из ее души все следы мимолетной
любви ко мне. Она могла оправиться от пережитого, к ней могли вернуться прежнее
здоровье, душевное спокойствие, даже бодрость, – но только не чувства,
которые, несомненно, уже представляются обманчивым сном, тем более что некому
напоминать ей обо мне, нет средства заверить ее в моей преданности, моем
постоянстве теперь, когда нас разделяет такое расстояние и простая деликатность
запрещает искать с ней встречи или хотя бы написать – во всяком случае, пока не
минуют долгие месяцы. А как мне заручиться помощью ее брата? Как разбить
ледяную броню застенчивой сдержанности. Быть может, он и теперь будет смотреть
на мою любовь с тем же неодобрением, что и раньше? Быть может, я кажусь ему
слишком бедным, слишком простолюдином, чтобы вступить в брак с его сестрой. Да,
нас разделил новый барьер. Между положением миссис Хантингдон, госпожи
Грасдейл-Мэнора и миссис Грэхем, художницы, отшельницы, укрывавшейся в
Уайлдфелл-Холле, бесспорно, существует значительная разница. И если я посмею
предложить руку первой, меня могут счесть дерзким – и свет, и ее друзья, если
не она сама. О, их осуждением я равнодушно пренебрег бы, будь я уверен в том,
что она меня любит. Но не иначе! К тому же ее покойный муж с обычным эгоизмом
мог поставить в своем завещании условия, препятствующие ее новому замужеству.
Как видишь, у меня хватало причин предаться отчаянию, будь я так расположен.
И все же
я с немалым нетерпением ожидал возвращения мистера Лоренса из Грасдейла, –
с нетерпением, возраставшим прямо пропорционально тому, насколько растягивалось
его отсутствие. Задержался он там более чем на десять дней. Бесспорно, чем
дольше сестра находила у него утешение и помощь, тем было лучше, но все-таки он
мог бы написать мне, как она себя чувствует или хотя бы когда его ждать
обратно. Ведь должен же он понимать, какие муки я испытываю, тревожась за нее и
не зная, чего мне ждать от будущего. Однако когда он наконец возвратился, то сказал
лишь, что она совсем измучена неусыпным уходом за тем, кто был губителем ее
жизни и чуть было не увлек с собой в могилу, и все еще не оправилась от
потрясения и от скорби, вызванной его печальным концом и сопутствующими
обстоятельствами. Но ни слова обо мне, ни намека, что мое имя хотя бы раз
сорвалось с ее губ или было произнесено в ее присутствии. Разумеется, об этом я
его не спрашивал – на такой вопрос у меня не хватило духу, так как я уже твердо
уверовал, что Лоренс против моего брака с его сестрой.
Я видел,
что он ожидает дальнейших расспросов о своей поездке, но с обостренной чуткостью
пробудившейся ревности… или уязвленного самолюбия… или уж и не знаю, как это
назвать, я, кроме того, увидел, что он их опасается, и был не просто удивлен,
но приятно удивлен, когда их не последовало. Разумеется, я пылал
яростью, но гордость вынудила меня скрыть мои чувства и сохранять внешнее
спокойствие – или, во всяком случае, стоическую невозмутимость – до конца
нашего разговора. Теперь я этому рад. Рассуждая с большей беспристрастностью, я
не могу не признать, что поссориться с ним тогда было бы и в высшей степени
неприлично и глупо. Должен также признаться, что был к нему несправедлив в
сердце своем. На самом деле он питал ко мне самые дружеские чувства, но это не
мешало ему сознавать, что брак между мной и миссис Хантингдон свет назовет
«мезальянсом», а для человека с его натурой мнение света значило много и уж тем
более, когда презрительный смех и пренебрежение грозили не ему самому, но его
сестре. Верь он, что брак этот составит счастье нас обоих, знай он, как
бесконечно я ее люблю, то поступал бы иначе. Но наблюдая, как я спокоен, как
невозмутим, он с полной искренностью не счел себя вправе смущать мою
философскую сдержанность. Ни в чем прямо не препятствуя нашему союзу, он ничего
не делал для того, чтобы ему содействовать, и уступал советам благоразумной
осторожности, помогая нам преодолеть взаимную склонность, а не советам сердца
поддержать ее. «И был прав!» – скажешь ты. Возможно, возможно. В любом случае у
меня не было истинных причин испытывать против него столь горькое негодование.
Но тогда я не сумел взглянуть на все столь беспристрастно и, поговорив еще
несколько минут на посторонние темы, ушел, испытывая муки уязвленной гордости и
разочарование в дружбе, вдобавок к агонии страха, что я и правда забыт, и
терзанием при мысли, что моя возлюбленная сейчас одна, в горе, измождена
телесно и душевно, а мне запрещено попытаться утешить ее, помочь ей – запрещено
даже выразить свое сочувствие, так как о том, чтобы воспользоваться
посредничеством мистера Лоренса, теперь не могло быть и речи.
Но что
же мне делать? Ждать, не вспомнит ли она обо мне сама? Но этого, разумеется, не
будет. А если она и попросит брата передать мне несколько приветливых слов, он,
конечно, такой просьбы не исполнит, а тогда… какая страшная мысль… Тогда, не
получив ответа, она сочтет, что мои чувства остыли и переменились. А может
быть, он уже дал ей понять, что я о ней больше не думаю! И все-таки я дождусь,
чтобы наконец миновали условленные шесть месяцев нашей разлуки (будет это на
исходе февраля), а тогда пошлю ей письмо, – почтительно напомню о ее
разрешении писать ей после истечения этого срока и изъявлю надежду, что могу
воспользоваться им, дабы выразить мои искреннейшие соболезнования по поводу
недавних ее горестей, мое восхищение ее благородством и мои упования, что
здоровье ее уже поправилось и что ей теперь будет дано наслаждаться той мирной,
безмятежной жизнью, которой судьба столь долго ее лишала, хотя поистине мало
кто более заслуживает подобного блага, чем она… И добавлю несколько слов
привета моему дружку Артуру с вопросом, помнит ли он меня… а может быть, и еще
несколько о прошедших днях, о восхитительных часах, проведенных мной в ее
обществе, вечно для меня живых, соли и утешении моего существования… А заключу
выражением надежды, что ее недавние печалите совсем изгладили меня из ее
памяти. Если она не ответит, то больше я, разумеется, писать не буду, если же
ответит (а ответить, пусть лишь из вежливости, она все-таки должна), дальше я
буду поступать, исходя из этого ее письма.
Ждать
десять недель в такой мучительной неуверенности? Но мужайся! Иного выхода нет.
А пока буду по-прежнему навещать Лоренса, хотя и реже, чем прежде, и
по-прежнему справляться о его сестре – давно ли она ему писала и как ее
здоровье, но не более того.
Так я и
поступал, но ответы неизменно ограничивались точно пределами вопроса, и ни на
йоту больше, к величайшему моему раздражению. Ничего нового: она не жалуется,
но, судя по тону письма, еще очень угнетена душевно; она упомянула, что ей
лучше; и, наконец, – она пишет, что совсем здорова, но оченв занята сыном,
управлением поместьем покойного мужа и приведением в порядок его дел. Негодяй
не подумал объяснить мне, какова была судьба имущества мистера Хантингдона:
оставил ли он завещание или нет. Но я скорее умер бы, чем спросил бы у него об
этом, – а что, если он неверно истолкует такое мое любопытство? Писем
сестры он больше в руки мне не давал, а я даже не намекал, как жажду прочесть
их. Впрочем, до февраля оставалось уже недолго. Декабрь миновал, январь
приближался к желанному концу… Еще недели две, и тогда отчаяние и обновленные
надежды положат конец этому нестерпимому ожиданию.
Увы! Как
раз тогда ее подстерег новый удар – кончина дяди, наверное, довольно-таки никчемного
старика, но с ней всегда доброго и ласкового, как ни с одной живой душой в
мире, так что она привыкла видеть в нем почти отца. Она помогала тетке
ухаживать за ним во время его последней болезни и присутствовала при его
кончине. Ее брат отправился в Стейнингли на похороны, а возвратившись, сказал
мне, что она осталась там, не желая покинуть тетушку одну, и, вероятно, уедет
оттуда не скоро. Меня это известие удручило: пока она гостит в Стейнингли, я не
сумею ей написать, так как не знаю адреса, а о том, чтобы узнать его у Лоренса,
речи быть не может. Но неделя проходила за неделей, и всякий раз в ответ на мой
вопрос я слышал от него, что она все еще в Стейнингли.
– А
где это? – не выдержал я наконец.
– В…шире, –
коротко ответил он таким холодным, сухим тоном, что у меня пропала всякая охота
справиться у него об адресе. – Когда она намерена вернуться в
Грасдейл? – спросил я затем.
– Не
знаю.
– А,
дьявол! – буркнул я.
– О
чем вы, Маркхем? – осведомился он с видом простодушного удивления. Но я не
удостоил его ответа, если не считать взгляда, полного мрачного презрения. Он
опустил глаза на ковер, с легкой улыбкой, полузадумчивой, полунасмешливой. Но
тут же поднял их и заговорил на другие темы, стараясь втянуть меня в веселый
дружеский разговор, но я был слишком зол и вскоре простился с ним.
Видишь
ли, мы с Лоренсом как-то не умели подлаживаться друг к другу. Мне кажется, причина
в том, что оба мы были несколько мнительны. Поверь, Холфорд, это очень
тягостное свойство – подозревать оскорбления в совершенно безобидных словах и
поступках. Сам я давно перестал быть мучеником этого недуга, что тебе известно
лучше, чем кому-либо. Я научился смотреть на вещи бодро и разумно, относиться
взыскательнее к себе и снисходительнее к моим ближним, и теперь только посмеиваюсь
над Лоренсом и тобой.
Отчасти
по воле случая, а отчасти и преднамеренно (потому что во мне зародилась неприязнь
к нему) я свиделся с моим другом снова только через несколько недель. И только
потому, что он искал нашей встречи. Как-то в солнечное утро в начале
июня он появился на лугу, где я наблюдал за началом сенокоса.
– Я
давно не видел вас, Маркхем, – сказал он, когда мы поздоровались. –
Вы решили больше не бывать в Вудфорде?
– Я
как-то заезжал, но не застал вас.
– К
большому моему сожалению. Только ведь это было давно, и я надеялся, что вы
снова меня посетите. Но не дождался. А сегодня уже я вас не застал. Вы ведь
редко сидите дома, не то я имел бы удовольствие навещать вас чаще. Но сегодня я
решил во что бы то ни стало увидеть вас. Привязал Серого у дороги и не
устрашился ни изгороди, ни канавы, лишь бы вас найти. Я ведь уезжаю и,
возможно, буду лишен удовольствия видеть вас целый месяц, если не два.
– Куда
вы едете?
– Сначала
в Грасдейл, – ответил он с невольной улыбкой, которую не сумел подавить, как
ни старался.
– В
Грасдейл! Значит, она там?
– Да,
но дня через два отправится с миссис Максуэлл в Ф. подышать морским воздухом, и
я поеду с ними. (Ф., нынешний модный курорт, в то время был тихим и приятным
приморским городком.)
Лоренс
как будто ждал, что я воспользуюсь случаем и пошлю с ним письмо его сестре или
поручу передать ей что-нибудь устно, и, полагаю, согласился бы без особых
возражений, если бы у меня хватило здравого смысла попросить его об этом. Хотя,
разумеется, сам мне свои услуги предлагать не собирался, раз уж я предпочел
промолчать. Но заставить себя обратиться к нему с такой просьбой я не сумел; и,
только когда он уехал, мне вдруг стало ясно, какой возможностью я пренебрег. Я
горько рассердился на себя за непроходимую глупость и дурацкую гордость, но
было уже поздно.
Вернулся
он только на исходе августа. Из Ф. я получил от него два-три письма, однако вызвали
они у меня лишь досаду, так как были полны общих мест либо пустяков, совершенно
меня не интересовавших, либо всяких фантазий и отвлеченных рассуждений, столь
же в то время для меня безразличных, – и почти ни слова о сестре, да и о
себе самом немногим больше. Утешала меня только мысль, что мне достаточно
дождаться его возвращения и уж, наверное, я сумею вытянуть из него побольше. Но
писать ей, пока с ней рядом брат и тетка, не стоит – ведь эта последняя,
конечно, отнесется кмоим дерзким надеждам даже с еще большим неодобрением, чем
он. Вот когда она вернется в тишину и одиночество собственного дома, вот тогда
ждать уже будет не надо.
Однако
когда Лоренс вернулся, он продолжал хранить ту же сдержанность относительно
всего, что меня мучительно интересовало, и сказать только, что его сестре
воздух Ф. принес большую пользу, сын ее здоров, но – увы! – они опять
поселились в Стейнингли у миссис Максуэлл… И прожили там больше трех месяцев…
Но не стану докучать тебе описанием моего горя, размышлений, разочарований,
переходов от ледяного уныния к чуть теплящейся надежде, моих окончательных
намерений то забыть все, то не отступать, то сделать смелый шаг, то махнуть
рукой и терпеливо ждать. Лучше я расскажу о судьбе двух действующих лиц моего
повествования, которых мне вряд ли придется упомянуть потом.
За
некоторое время до смерти мистера Хантингдона леди Лоуборо бежала на континент
с другим кавалером, где некоторое время они жили в вихре удовольствий и порока,
а затем поссорились и расстались. Она продолжала некоторое время блистать, но
годы шли, а деньги иссякали. В конце концов она запуталась в долгах и, испив
полную чашу позора и бед, умерла, как я слышал, в нищете, без помощи и
утешения, всеми оставленная. Но возможно, это только слухи, и она еще жива,
хотя ни я, ни ее родственники, ни бывшие знакомые ничего о ней не знаем. Они
потеряли ее из виду много лет назад и, если бы могли, предпочли бы вовсе о ней
забыть. Ее муж после второй ее измены немедленно принял меры, чтобы получить
развод, а получив, довольно скоро вновь женился. Поступок очень разумный: ведь
лорд Лоуборо, хотя и казался угрюмым мизантропом, не был создан для холостой
жизни. Никакие отвлеченные интересы, честолюбивые помыслы или деятельность – и
даже узы дружбы (будь у него друзья) – не могли заменить ему домашние
радости и уют. Правда, у него был сын и признанная им дочь, но они слишком уж
горько напоминали ему о своей матери, а злополучная малютка Аннабелла, кроме
того, служила для него источником непреходящей душевной муки. Он заставил себя
быть с ней по-отцовски заботливым, он принудил себя не питать к ней ненависти,
а возможно даже, мало-помалу сердце его потеплело в ответ на ее доверчивую
любовь к нему. Однако ожесточение, с каким он осуждал себя за чувства, которые
пробуждала в нем крошка, его постоянная борьба с дурными устремлениями
собственной натуры (от природы вовсе не великодушной) – все то, о чем
знавшие его могли лишь отчасти догадываться, во всей своей полноте известны
лишь Богу и ему самому. Как и тяжкие усилия не поддаться искушению и не
вернуться к пороку молодости, чтобы обрести забвение прошлых несчастий и в
тупом беспамятстве перенести тоску разбитого сердца, безрадостное одинокое существование,
не согретое даже дружбой, и унылый упадок духа, вновь уступив коварному врагу
здоровья, ясного ума и добродетельности, который один раз уже столь бесславно
поработил его.
Вторая
его избранница ни в чем не походила на первую. Некоторые удивлялись его вкусу,
другие даже высмеивали его, что, впрочем, выставляло в глупом свете их самих.
Она была его ровесницей – то есть ближе к сорока годам, чем к тридцати, не
славилась ни красотой, ни богатством, ни светскими талантами и вообще,
насколько я слышал, ничем особенным не отличалась, а просто была благоразумна,
прямодушна, глубоко благочестива, доброжелательна и обладала неистощимой
бодростью. Но, как ты без труда представишь себе, благодаря этим качествам она
сумела стать истинной матерью детям и именно такой женой, в какой нуждался его
милость. Он же с обычным своим самоуничижением (не паче ли гордости?)
утверждал, что она слишком хороша для него и, дивясь доброте Провидения,
одарившего его столь бесценным кладом, а заодно и тому, что она предпочла его
всем остальным мужчинам в мире, старался, как мог, отплачивать ей тем же,
весьма в этом преуспев, – она была, да, по-моему, и остается, одной из
самых счастливых и любящих жен во всей Англии. Те же, кто осуждал ее или его за
такой выбор, пусть радуются, если собственный их брак оказался хотя бы в
половину столь удачным и их любят хотя бы в половину столь горячо и преданно.
Если
тебя сколько-нибудь интересует судьба столь презренного негодяя, как Гримсби,
могу только сказать, что от скверного он переходил к еще более худшему, все
глубже увязал в пороке и подлости, делил общество лишь с самыми сомнительными
членами своего клуба да с подонками и осадками человечества (к счастью для
остального мира) и нашел свой конец в пьяной ссоре от руки, как говорили,
такого же негодяя, поймавшего его на шулерстве.
Что до
мистера Хэттерсли, он не оставил своего решения «выйти из среды их» и вести
себя, как подобает христианину и отцу семейства, а болезнь и смерть его
приятеля и былого веселого собутыльника Хантингдона настолько наглядно показали
ему всю губительность их прежних привычек, что второго такого урока не
понадобилось. Избегая столичных соблазнов, он прочно обосновался у себя в
имении и посвящал свое время обычным занятиям деятельного, полного сил помещика,
к которым добавил разведение породистых лошадей и скота. Иногда он развлекался
охотой и лисьей травлей в обществе друзей – более почтенных, чем прежние, и
черпал немало радостей в обществе своей счастливой женушки (такой веселой и
уверенной в себе и в нем, как только можно пожелать), а также многочисленных
крепких сыновей и цветущих дочек. Его отец, банкир, скончался несколько лет
назад, оставив ему все свое состояние, после чего он обрел возможность дать
полную волю своим вкусам, и вряд ли мне надо упоминать, что конный завод Ральфа
Хэттерсли, эсквайра, славится своими лошадьми по всей стране.
|


