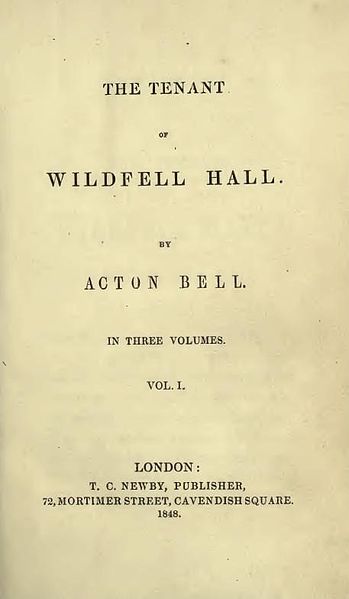
 Увеличить Увеличить |
Глава XVIII
МИНИАТЮРА
25
августа. Мало-помалу
я вернулась к прежним своим занятиям и тихим развлечениям. Я бодра, даже
весела, но с нетерпением жду весны, когда мы, наверное, опять поедем в Лондон.
Нет, меня влекут не столичные удовольствия и суета, а надежда вновь увидеться с
мистером Хантингдоном – он по-прежнему со мной в моих мыслях и в моих снах.
Все, чем я занимаюсь, все, что я вижу или слышу, связано для меня с ним. Все,
что я узнаю, чему учусь, когда-нибудь послужит для его пользы или развлечения;
новые красоты, которые открываются мне в природе или в искусстве, я
запечатлеваю карандашом или кистью, чтобы когда-нибудь и он их увидел, или запоминаю,
чтобы в будущем рассказать о них ему. Во всяком случае, такую надежду я лелею,
такие грезы скрашивают мой одинокий путь. Быть может, это лишь блуждающие
огоньки, но что дурного последить за ними взглядом, полюбоваться их блеском,
если я не дам им сбить меня с верного пути? А последнего, полагаю, никогда не
случится, потому что я много размышляла над советами тетушки и теперь ясно
вижу, как безрассудно было бы отдать свою жизнь тому, кто не достоин любви, на
которую способна я, кто не может ответить на лучшие и сокровеннейшие чувства
моего сердца, – вижу так ясно, что даже если мы снова встретимся, если он
еще помнит и любит меня (увы, как мало это вероятно при его образе жизни среди
таких друзей!) и попросит стать его женой, я твердо решила не давать согласия,
пока точно не узнаю, чье мнение о нем, мое или тетушкино, ближе к истине. Ведь
если мое окажется неверным, значит, я люблю не его, а призрак, созданный моим
воображением. Но не думаю, что я ошиблась в нем. Нет, нет! Есть какой-то
таинственный инстинкт, какой-то голос души, заверяющий меня, что я права.
Натура его прекрасна по природе, и каким счастьем будет помочь ей расцвести!
Если на него воздействует тлетворное влияние развращенных и порочных друзей,
какой чудный подвиг – спасти его от них! Ах, если бы я могла поверить, что
Небеса предназначили меня для этого!
Нынче
первое сентября, но дядюшка приказал лесничему приберечь фазанов для приезда
джентльменов.
– Каких
джентльменов? – спросила я, когда услышала об этом.
Оказывается,
он пригласил пострелять дичь небольшое общество. В том числе своего друга
мистера Уилмота и друга моей тетушки мистера Скукхема. Я ужаснулась, но все мои
сожаления и досада тотчас были забыты, едва я услышала, что третьим будет
мистер Хантингдон! Тетушка, разумеется, против того, чтобы он гостил у нас. Она
всячески уговаривала дядю не приглашать его, но он лишь засмеялся и сказал, что
уже поздно – он пригласил мистера Хантингдона и его друга лорда Лоуборо еще в Лондоне,
и теперь остается только назначить день охоты. Так, значит, он жив, здоров и я
его увижу! Однако я должна скрывать свою радость, пока не узнаю, следует ли мне
дать волю своим чувствам или нет. Если я приду к убеждению, что мой долг –
подавить их, они никого не ранят, кроме меня. Если же я докажу себе, что они
оправданы, то не устрашусь ничего, даже гнева и горя лучшего моего друга на
земле. Скоро я уже, конечно, буду знать все. Но они приедут только в середине
месяца.
У нас
будут гостить и две барышни: мистер Уилмот привезет свою племянницу и ее кузину
Милисент. По-моему, тетушка думает, что мне пойдет на пользу общество этой
последней, благой пример ее кротости и скромности. А в первой, подозреваю, она
видит блестящую приманку, которая отвлечет мистера Хантингдона от меня. Ну я ей
не буду за это благодарна! Но Милисент я искренне рада. Она очень милая, добрая
девушка, и я хотела бы быть на нее похожей. То есть отчасти.
19
сентября. Они
приехали. Они приехали позавчера. Сейчас все джентльмены отправились стрелять
куропаток, барышни сидят с тетушкой в гостиной за рукоделием, а я ушла в
библиотеку, потому что очень несчастна и хочу побыть одна. Чтение меня не
развлекает, и вот, открыв дневник, я изложу причины этой тоски, а тогда, быть
может, легче пойму, что мне следует делать. Эта страница будет моей
наперсницей, и я изолью ей всю душу. Она не посочувствует моим страданиям, но и
не посмеется над ними. И никому про них не проговорится, если я буду беречь ее
от посторонних глаз. Вот почему подруги лучше мне, пожалуй, не найти.
Во-первых,
расскажу о его приезде – как я сидела у окна и смотрела на дорогу почти два часа,
прежде чем его экипаж миновал ворота парка, – они все прибыли раньше, и
как горько было всякий раз обманываться в ожиданиях! Первым приехал мистер
Уилмот с барышнями. Когда Милисент поднялась к себе в комнату, я на несколько
минут покинула свой пост, чтобы поздороваться с ней и побеседовать наедине – мы
ведь обменивались длинными письмами и стали близкими подругами. Вернувшись к
окну, я увидела подъехавшую карету. Неужели он? Нет. Я узнала простой черный
кабриолет мистера Скукхема, а потом увидела на крыльце и его самого – он внимательно
следил, как слуги вносят в дом багаж. Столько баулов и свертков, словно он
приехал на полгода, не меньше! Через порядочный срок подъехал лорд Лоуборо в
ландо. Один из его друзей-повес? Пожалуй, нет. Я уверена, никто не назвал бы
его веселым товарищем своих забав. Да и держится он столь серьезно и
благовоспитанно, что никак не заслуживает подобных подозрений. Это высокий,
худощавый, угрюмый человек лет тридцати пяти на вид, с лицом несколько болезненным
и сумрачным.
Наконец
к крыльцу лихо подкатил легкий фаэтон мистера Хантингдона, но его самого я почти
не увидела – так быстр он выпрыгнул на ступеньки и тотчас скрылся в доме.
Тогда я
наконец подчинилась необходимости переодеться к обеду – Рейчел уже минут двадцать
меня теребила, – а по завершении этой важной процедуры спустилась в
гостиную, где нашла мистера и мисс Уилмот, а также Милисент. Вскоре вошел лорд
Лоуборо, а следом за ним мистер Скукхем, который как будто был готов весьма
охотно простить и забыть мой отказ в уповании, что кое-какими улещиваниями и
упорством он еще сумеет меня образумить. Едва он направился к окну, где я
стояла с Милисент, и принялся разглагольствовать в обычном своем духе, как в
гостиную вошел мистер Хантингдон.
«Как он
поздоровается со мной?» – спросила я свое трепещущее сердце и не пошла ему
навстречу, а, наоборот, отвернулась к окну, чтобы совладать со своими
чувствами. Но, поздоровавшись с хозяином и хозяйкой дома и с остальными
гостями, он сам подошел ко мне, пылко пожал мне руку и нежно сказал, что очень
рад снова со мной увидеться. Тут доложили, что обед подан, тетушка попросила
его быть кавалером мисс Харгрейв, а мне с омерзительными ужимками подставил
свой локоть отвратительный мистер Уилмот. Я была осуждена сидеть за столом
между ним и мистером Скукхемом! Но когда мы все вновь сошлись в гостиной, меня
вознаградили за мои муки слишком короткие, но восхитительные минуты разговора с
мистером Хантингдоном.
В
течение вечера мисс Уилмот попросили развлечь общество пением и музыкой, а меня
– моими рисунками, и, по-моему, хотя он любит музыку и она превосходная
музыкантша, я не ошибусь, сказав, что мои рисунки занимали его больше, чем ее
пение.
Все шло
отлично, но вдруг он произнес вполголоса с каким-то особым выражением:
– А
вот этот – лучше всех!
Я
взглянула, чтобы понять, чем вызвана такая похвала, и в ужасе обнаружила, что
он самодовольно смотрит на оборотную сторону листа, на собственное лицо,
которое я там набросала и забыла стереть! Хуже того: вне себя от смущения я
хотела вырвать у него лист, но он предупредил мое намерение, быстро прижал его
к жилету, застегнул фрак с восхищенным смешком и воскликнул:
– Нет!
Клянусь всеми святыми, его я оставлю себе!
Затем,
придвинув подсвечник к самому своему локтю, он забрал все рисунки (и те,
которые уже смотрел, тоже), пробормотал «Уж теперь я буду разглядывать обе
стороны» и перешел от слов к делу. Вначале я следила за ним почти спокойно, в
уверенности, что больше он там не найдет пищи для своего тщеславия. Хотя
оборотная сторона нескольких листов хранила следы попыток запечатлеть это
преследовавшее меня лицо, я твердо помнила, что за единственным злополучным
исключением стерла все эти доказательства моего увлечения. Однако карандаш
часто оставляет на картоне неизгладимые вдавленные линии, и я, признаюсь, со
все возраставшим трепетом следила, как он подносит листы к пламени свечи,
внимательно вглядываясь в словно бы совершенно чистую поверхность. Тем не менее
я тешила себя надеждой, что эти еле заметные отпечатки ему ничего не скажут.
Однако я ошиблась. Осмотрев последний лист, он сказал негромко:
– Как
вижу, барышни приберегают оборотную сторону рисунков, как и постскриптумы в
своих письмах, для самого важного и интересного!
Он
откинулся на спинку кресла и несколько минут размышлял в молчании, продолжая довольно
улыбаться, а затем, пока я еще только подбирала слова, чтобы согнать эту улыбку
с его губ, он вдруг встал, направился туда, где Аннабелла Уилмот отчаянно
кокетничала с лордом Лоуборо, опустился на кушетку рядом с ней и уже не отходил
от нее до конца вечера.
«Значит, –
подумала я, – он презирает меня, так как понял, что я его люблю».
И мне
стало так горько, что я не знала, куда деваться. Ко мне подошла Милисент, взяла
мои рисунки и начала ими восхищаться, но у меня не было сил говорить с ней. И
ни с кем другим тоже. Едва внесли чай, как я воспользовалась общим движением в
комнате и ускользнула в библиотеку – я чувствовала, что расплескаю чашку.
Тетушка прислала за мной Томаса, но я сказала, что чай пить сегодня не буду. К
счастью, она была занята гостями и оставила меня в покое. Во всяком случае,
тогда.
Гости
устали после долгого пути, и общество разошлось рано. Я услышала, что все они –
как мне показалось – поднялись к себе в спальни, и направилась в гостиную,
чтобы взять свою свечу. Однако мистер Хантингдон задержался. Он как раз
поставил ногу на нижнюю ступеньку, но, услышав мои шаги – хотя сама я их почти
не слышала, – тотчас обернулся.
– Хелен,
это вы? – спросил он. – Почему вы убежали от нас?
– Спокойной
ночи, мистер Хантингдон, – произнесла я холодно, не отвечая на его вопрос,
и повернулась к дверям гостиной.
– Но
вы дадите мне пожать вашу руку? – произнес он, преградил мне путь, не
дожидаясь моего разрешения, схватил мою руку, крепко сжал в своих и не
отпускал.
– Не
задерживайте меня, мистер Хантингдон, – сказала я. – Мне надо взять
свечу.
– Свеча
подождет! – возразил он небрежно.
Я
попыталась высвободить руку.
– Ну
почему вы так торопитесь покинуть меня, Хелен? – сказал он с дразнящей
улыбкой. – Вы же знаете, что вовсе не ненавидите меня!
– Нет,
ненавижу… сейчас.
– Ничего
подобного. Ненавидите вы Аннабеллу Уилмот, а совсем не меня.
– Я
совершенно не интересуюсь Аннабеллой Уилмот! – воскликнула я, вспыхивая от
негодования.
– А
вот я так да, как вам известно, – ответил он, подчеркивая каждое слово.
– Мне
это безразлично, сэр! – возразила я.
– Так-таки
совсем уж безразлично, Хелен? Вы поклянетесь в этом? Поклянитесь!
– И
не подумаю, мистер Хантингдон! Немедленно отпустите меня! – потребовала я,
не зная, то ли плакать, то ли смеяться, то ли дать волю гневу.
– Ну,
так идите, плутовка! – сказал он, но едва отпустил мою руку, как дерзко
обнял меня за шею и поцеловал!
Вся
дрожа от негодования, волнения и не знаю от чего еще, я вырвалась, схватила
свечу и бросилась вверх по лестнице. Он бы никогда не осмелился, если бы не
этот ненавистный рисунок! И ведь он у него так и остался – вечный памятник его
торжества и моего унижения!
Ночью я
почти не сомкнула глаз, а утром встала в растерянности, мучаясь мыслью, как мы
встретимся за завтраком. Я не знала, что мне делать. Принять вид холодного,
высокомерного равнодушия? Но ведь он знает о моем увлечении, пусть даже только
его лицом! И все-таки надо было как-то положить предел его самонадеянности.
Нельзя же допустить, чтобы эти ясные смеющиеся глаза помыкали мной! Поэтому я
ответила на его веселое утреннее приветствие с таким ледяным спокойствием,
какое только могла бы пожелать тетушка, и короткими сухими ответами положила
конец двум-трем его попыткам завязать со мной разговор. Зато с остальными я
держалась с необычайной веселостью и любезностью – особенно с Аннабеллой
Уилмот. Даже ее дядя и мистер Скукхем не составили в это утро исключение – я
была с ними почти мила, не из кокетства, а желая показать ему, что моя
холодность и сдержанность вовсе не следствие дурного расположения духа или
уныния.
Однако
моя тактика его не оттолкнула. Он почти не обращался ко мне, но когда
заговаривал, то с непринужденностью, откровенностью и… и, да, добротой, которая
словно намекала, что ему отлично известно, какой музыкой звучит в моих ушах его
голос. А когда наши взгляды встречались, он улыбался улыбкой – пусть
самонадеянной, но такой светлой, такой нежной, такой ласковой, что я невольно
перестала сердиться. Последние остатки гнева скоро исчезли из моего сердца,
словно утренний туман под солнечными лучами.
После
завтрака все джентльмены, за исключением одного, с мальчишеским азартом собрались
пострелять злополучных куропаток. Дядя и мистер Уилмот – верхом на охотничьих
лошадках, мистер Хантингдон и лорд Лоуборо – пешком. Исключение составил мистер
Скукхем, который, памятуя, что ночью шел дождик, счел за благо задержаться и
присоединиться к остальным, когда солнце подсушит траву. Он долго и
обстоятельно поучал нас, сколь опасно и вредно промачивать ноги, и сохранял при
этом невозмутимую серьезность, несмотря на хохот и насмешки дяди и мистера
Хантингдона, которые предоставили благоразумному охотнику развлекать женскую половину
общества медицинскими наставлениями, а сами с ружьями за плечами направили
стопы свои на конюшню, чтобы посмотреть лошадей и взять собак.
Не
испытывая особого желания провести утро в компании мистера Скукхема, я
удалилась в библиотеку, поставила там мольберт и взяла палитру. Краски и кисти
послужили бы мне оправданием, если бы тетушка заглянула в библиотеку сделать
мне выговор за то, что я оставила ее одну занимать гостей. К тому же мне
хотелось дописать давно начатую картину. Я вложила в нее много стараний и верила,
что она будет моим шедевром, хотя притязания мои довольно честолюбивы. Яркая
лазурь небес, теплые световые эффекты и густые длинные тени по моему замыслу
воплощают идею солнечного утра. Я осмелилась сделать траву и листья более
сочно-зелеными, чем это обычно принято, желая передать их юную свежесть на
исходе весны или в самом начале лета. Картина изображает лесную поляну. Темная
купа елей на среднем плане смягчает излишнюю яркость других оттенков зелени, а
на первом плане я написала могучий дуб – вернее часть толстого узловатого
ствола и несколько ветвей, одетых почти золотистой листвой. Но это не осеннее
золото, а блеск солнечных лучей, пронизывающих нежные едва-едва развернувшиеся
резные листочки. На нижней ветви, контрастно выделяющейся на угрюмом фоне елей,
сидит пара влюбленных голубков, чье сизое оперение создает еще один контраст,
но иного рода – чуть навевающий грусть. А возле ствола в траве, усеянной
звездами маргариток, стоит на коленях, закинув голову, юная девушка: волна
белокурых кудрей ниспадает ей на плечи, руки сжаты, губы полуоткрыты, а глаза с
неизъяснимым восторгом устремлены на пернатых влюбленных, которые, всецело
поглощенные друг другом, не замечают ее присутствия.
Я
только-только приступила к работе (впрочем, мне оставалось сделать лишь
несколько завершающих мазков), когда под окном прошли охотники, возвращавшиеся
из конюшни. Оно было приоткрыто, и мистер Хантингдон, вероятно, увидел меня,
так как через полминуты он вернулся, прислонил ружье к стене, поднял раму,
впрыгнул в комнату и встал перед картиной.
– Очень
красиво, клянусь честью, – произнес он после нескольких секунд
внимательного созерцания. – И тема особенно подходящая для юной барышни.
Весна, переходящая в лето, утро, переходящее в полдень, детская наивность,
расцветающая в женственность, и грезы, которые вот-вот станут явью. Она
прелестна, но почему вы не захотели сделать ее волосы черными?
– Мне
казалось, что светлые волосы пойдут ей больше. Вы же видите, я сделала ее голубоглазой,
пухленькой, белокурой и румяной.
– Истинная
Геба! Я бы влюбился в нее, если бы не видел перед собой художницу. Обворожительная
невинность! Она думает, что настанет время, когда и ее, как эту голубку,
покорит нежный и пылкий влюбленный, и еще она думает, каким блаженством это
будет, какой верной и любящей найдет он ее!
– И,
может быть, – добавила я, – каким верным и любящим найдет она его.
– Быть
может… Ведь влеком возрасте буйная игра воображения не знает пределов.
– По-вашему,
это такая уж буйная игра воображения?
– Нет.
Мое сердце опровергает мои слова. Прежде я мог бы так подумать, но теперь я
скажу: дайте мне назвать своей ту, кого я люблю, и я поклянусь ей в вечной
верности, ей одной, летом и зимой, в молодости и в старости, в жизни и в
смерти. Если старость и смерть все-таки неизбежны!
Он сказал
все это так серьезно, так искренне, что сердце у меня подпрыгнуло от радости,
но мгновение спустя, изменив тон, он спросил с многозначительной улыбкой, нет
ли у меня «еще портретов».
– Нет, –
ответила я, краснея от смущения и досады. Но на столе лежала папка с моими рисунками.
Он взял ее и, сев у стола, хладнокровно приготовился их перебирать.
– Мистер
Хантингдон, это неоконченные наброски! Я никому не разрешаю на них смотреть! –
вырвалось у меня.
И я
взялась за папку, чтобы отобрать, но он прижал ее ладонью и заверил меня, что
«больше всего на свете любит смотреть наброски».
– А
я ненавижу, если на них смотрят! – возразила я. – Отдайте папку! Я не
могу оставить ее вам.
– Ну,
так оставьте мне ее содержимое, – ответил он, и в ту секунду, когда я
вырвала у него папку, он ловко вытащил больше половины рисунков и почти сразу
же воскликнул: – Клянусь солнцем, еще один!
С этими
словами он положил в жилетный карман небольшой овал веленевой бумаги – миниатюру,
которой я была настолько довольна, что с большим тщанием ее раскрасила. Но мне
совсем не хотелось, чтобы она осталась у него.
– Мистер
Хантингдон! – воскликнула я. – Верните мне ее сейчас же. Она моя, и
вы не имели никакого права брать ее! Сейчас же отдайте, или я вам этого никогда
не прощу!
Но чем
взволнованнее я настаивала, тем больше он смеялся, торжествуя, и совсем вывел меня
из себя. Однако в конце концов он возвратил мне миниатюру со словами:
– Ну,
раз уж вам она так дорога, не стану вас ее лишать!
Чтобы
показать ему, как она мне дорога, я разорвала миниатюру пополам и бросила в
огонь. К этому он готов не был и, сразу перестав смеяться, в немом изумлении
следил, как огонь пожирает это сокровище.
– Хм!
Пора пойти пострелять, – бросил он затем небрежно, повернулся на каблуках,
выпрыгнул в окно, щегольски надел шляпу, взял ружье и, насвистывая, удалился,
что, впрочем, не помешало мне докончить картину, так как в ту минуту я
радовалась его досаде.
Вернувшись
в гостиную, я обнаружила, что мистер Скукхем решился присоединиться к остальным
охотникам, и после второго завтрака, к которому они не вернулись, как и были
намерены, я предложила Милисент и Аннабелле показать им окрестности. Мы долго
гуляли и вошли в ворота парка почти вместе с возвращавшимися охотниками.
Измученные трудами праведными, в одежде, хранящей следы сырости и глины, почти
все они свернули на траву, стараясь держаться подальше от нас, но мистер
Хантингдон, хотя был перепачкан с головы до ног и обрызган кровью своих жертв –
весьма шокировав мою строгую тетушку, – поспешил нам навстречу, одаряя веселыми
улыбками и шутками всех, кроме меня. Затем он пошел между Аннабеллой Уилмот и
мной и принялся рассказывать о всевозможных охотничьих подвигах и злоключениях,
которые выпали на их долю в этот день, так оригинально и забавно, что не будь
мы в ссоре, я бы смеялась до слез. Но он обращался только к Аннабелле, и я,
разумеется, предоставляла ей смеяться и поддразнивать его, а сама, напустив на
себя полное безразличие, шла чуть в стороне и глядела на что угодно, только не
на них. Тетушка шла, опираясь на руку Милисент, и о чем-то с ней серьезно
беседовала. Внезапно мистер Хантингдон обернулся ко мне и доверительным шепотом
спросил:
– Хелен,
почему вы сожгли мой портрет?
– Потому
что хотела его уничтожить! – ответила я с раздражением, о котором теперь
поздно сожалеть.
– Превосходно! –
сказал он. – Если вы меня цените столь мало, придется мне поискать кого-нибудь,
кому мое общество будет приятно.
Я
подумала, что он шутил, прикидываясь покорным судьбе и равнодушным, но он
тотчас вернулся к мисс Уилмот, и с той минуты до этой – весь тот вечер, и весь
следующий день, и весь следующий, и следующий, и все нынешнее утро (двадцать
второго) он ни разу не сказал мне ни единого ласкового слова, ни разу не
посмотрел на меня с нежностью, разговаривал со мной только, когда этого
требовала необходимость, а если и смотрел в мою сторону, то с холодной враждебностью,
на какую я не считала его способным.
Тетушка
заметила эту перемену, и, хотя не осведомилась о причине и вообще ни словом о
ней не обмолвилась, я вижу, что она довольна. Мисс Уилмот тоже ее заметила и с
торжеством приписывает это собственным более неотразимым чарам и кокетству. А я
несчастна – даже самой себе боюсь признаться, как несчастна! И гордость не
приходит мне на помощь. Она ввергла меня в эту беду, но не хочет выручить.
Он же
ничего дурного не думал! Он ведь всегда весел и шутлив, а я моим кислым раздражением,
таким серьезным, таким неуместным, столь глубоко ранила его чувства и оскорбила
его, что, боюсь, он никогда меня не простит, – и все из-за простой шутки!
Он думает, что неприятен мне, – пусть думает. Я должна навеки его
потерять, и пусть Аннабелла покорит его и торжествует, сколько ее душе угодно.
Но я
страдаю не потому, что потеряла его, и не потому, что она торжествует, но
потому, что напрасно мечтала стать ему опорой, а она недостойна его
привязанности, и, вверив свое счастье ей, он причинит себе столько горя! Ведь
она его не любит, она думает только о себе. Ей не дано понять лучшие качества
его натуры, она не увидит их, не оценит, не поможет им укрепиться. Она не будет
ни скорбеть о его прегрешениях, ни искать им исправления, но лишь добавлять к
ним свои собственные. Впрочем, у меня нет уверенности, что она его не обманет.
Я вижу, какую двойную игру она ведет с ним и лордом Лоуборо: развлекаясь с
веселым, шутливым Хантингдоном, она всячески старается заманить в свои сети его
меланхоличного друга. И если ей удастся бросить к своим ногам их обоих, то сын
простого помещика, каким бы привлекательным он ни был, вряд ли возьмет верх над
титулованным пэром. А он если и замечает ее хитрые уловки, то они его нисколько
не смущают, но лишь делают интереснее его забаву, создавая препятствия,
надбавляющие цену чересчур уж легкой победе.
Господа
Уилмот и Скукхем не замедлили воспользоваться его пренебрежением ко мне и возобновили
свои ухаживания. Будь я похожа на Аннабеллу и ей подобных, то могла воспользоваться
их настойчивостью, чтобы пробудить в нем угасший интерес ко мне. Но если даже
забыть о гордости и уважении к себе, я бы все равно не выдержала бы! Их
назойливость и без моих поощрений мне невыносимо тягостна. Впрочем, даже
окажись я на это способной, он все равно остался бы равнодушен. Видит же он,
как я страдаю от снисходительного внимания и докучных рассуждений одного и
отталкивающей фамильярности другого, – и ни тени сочувствия ко мне или
негодования на моих мучителей! Нет, он никогда меня не любил, иначе не
отказался бы от меня столь охотно и не разговаривал бы как ни в чем не бывало и
не шутил с лордом Лоуборо и дядюшкой, не поддразнивал бы Милисент Харгрейв, не флиртовал
бы с Аннабеллой Уилмот. О, почему я не могу его возненавидеть? Наверное, я
потеряла голову, не то с презрением отвергла бы всякое сожаление о нем! Но мне
необходимо собрать все свои оставшиеся силы и попытаться вырвать его из сердца.
Звонят к обеду, а вот и шаги тетушки, которая идет выбранить меня за то, что я
просидела здесь весь день, избегая гостей. Ах, если бы эти гости… разъехались.
|


