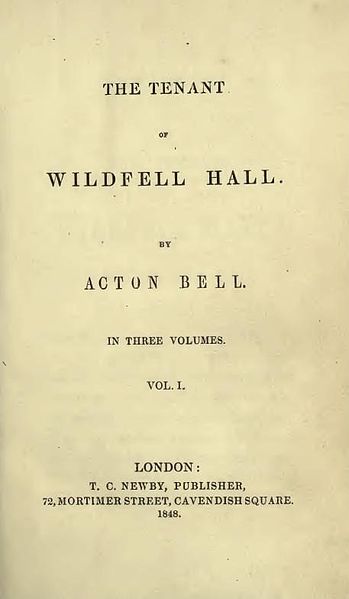
 Увеличить Увеличить |
Глава XXIX
ЛЮБЕЗНЫЙ СОСЕД
25
декабря 1823 года. Вот
миновал еще год. Мой малютка Артур живет и цветет. Он здоров, хотя крепышом его
назвать нельзя. Веселый, живой, уже очень ласковый, полный всяческих чувств и
душевных движений, для которых у него еще долго не будет слов. Он наконец
покорил сердце своего отца, и теперь я живу под постоянной угрозой, что
безрассудное отцовское баловство испортит его. Но мне следует остерегаться и
собственной слабости, потому что только теперь я узнала, как трудно
противостоять соблазну потакать своему единственному ребенку.
Мне
необходимо искать утешение в моем сыне (безмолвной бумаге я могу доверить такое
признание!) потому что в своем муже я нахожу его так мало! Я все еще люблю его,
и он меня по-своему любит, но как, о, как это не похоже на ту любовь, которую я
могла бы дарить и когда-то мечтала получать! Как мало между нами истинной
близости! Сколько моих мыслей и чувств замкнуты во мне и не находят исхода!
Сколько самого лучшего и благородного в моей душе остается вне пределов моего
брака и обречено либо окаменеть и ожесточиться в вечном мраке одиночества, либо
тихо увянуть и рассыпаться, не находя питания в этой скудной почве! Но повторю
еще раз: у меня нет права жаловаться. Тем не менее я должна сказать истину,
пусть не всю, а потом увидим, будут ли пятнать эти страницы еще более черные
истины. Мы теперь женаты полных два года, «романтичность» нашей любви должна
была полностью стереться. Уж конечно, я достигла самой низшей ступени в
привязанности Артура и узнала все худшие стороны его натуры. И если суждены еще
перемены, так они должны быть к лучшему! Мы больше привыкаем друг к другу, ну а
с этой ступени ниже нам спускаться некуда. Но если так, то я смогу переносить
это, во всяком случае, не хуже, чем переносила до сих пор.
Артур
ведь вовсе не дурной человек в общепринятом смысле этого слова. У него много хороших
качеств, но он лишен способности управлять собой, лишен высоких устремлений –
бонвиван, преданный плотским удовольствиям. Он совсем не плохой муж, но его
понятия о семейных обязанностях и радостях далеки от моих. Насколько можно
судить, по его убеждению, жена – это механизм, назначение которого преданно
любить мужа и сидеть дома. Она должна ухаживать за своим повелителем,
развлекать его и всячески ублажать, пока он изволит оставаться с ней. А в его
отсутствие ей положено блюсти его интересы во всем, что от нее зависит, и
терпеливо ждать его возвращения, независимо от того, чем он занимается вдали от
нее.
В начале
весны Артур объявил, что едет в Лондон – его ждут там дела и больше откладывать
их он не может. Он выразил сожаление, что должен меня покинуть, а также
надежду, что до его возвращения малыш послужит мне достаточным развлечением.
– Но
почему ты должен со мной расставаться? – спросила я. – Почему мне не
поехать с тобой? И без долгих сборов.
– Так
не повезешь же ты младенца в город?
– Повезу.
А почему нет?
Вздор!
Городской воздух будет ему очень вреден, да и мне, пока я его кормлю.
Лондонский образ жизни, поздние часы, принятые в столице, будут мне при таких
обстоятельствах в тягость. И вообще, заверил он меня, такое переезд причинит
мне слишком много хлопот и вреда. Нет, мне никак не следует подвергать себя
таким опасностям. Я опровергла его возражения, насколько могла, так как дрожала
при мысли, что он поедет один, и готова была пойти на большие жертвы – даже в
ущерб моему ребенку, лишь бы не допустить этого. В конце концов он сказал мне
прямо и довольно раздраженно, что не хочет, чтобы я ехала: он совсем измучен
бессонными ночами, на которые обречен по милости младенца, и должен немного
отдохнуть. Я предложила устроить в городе отдельные спальни, но и это ему не
подошло.
– Правда
в том, Артур, – сказала я наконец, – что ты устал от меня и твердо
решил, что я с тобой не поеду. Почему ты сразу мне так не сказал?
Он начал
отрицать, но я тут выбежала из комнаты и укрылась в детской, чтобы если не успокоиться,
то хотя бы скрыть свои чувства.
Горечь
обиды не позволяла мне больше возражать против его намерений и вообще говорить
о них, если не считать необходимых вопросов о сборах в дорогу и о делах,
которыми мне надо будет заниматься в его отсутствие. Однако накануне его
отъезда я все-таки не выдержала и умоляла его следить за собой и держаться
подальше от соблазнов. Он посмеялся над моей тревогой, заверил меня, что причин
для нее нет ни малейших, и обещал помнить мои советы.
– Полагаю,
бесполезно просить, чтобы ты сейчас назначил день своего возвращения? –
спросила я.
– Ну
да. Откуда мне знать заранее, как все сложится? Но успокойся, любовь моя, долго
я там не останусь.
– У
меня вовсе нет желания держать тебя дома взаперти! – воскликнула я. –
И я не упрекнула бы тебя, если бы ты даже уехал на несколько месяцев, –
если уж ты способен быть счастлив в такой долгой разлуке со мной! – но при
условии, чтобы я знала, что тебе ничто не угрожает. Однако мне очень не
нравится, что все это время ты будешь проводить с друзьями, как ты их
называешь!
– Вздор,
глупышка моя! Неужели ты думаешь, что я не сумею держать себя в руках?
– В
прошлый раз не сумел же! Но теперь, Артур, – сказала я с
жаром, – докажи мне это, убеди меня, что тебе можно доверять без боязни!
Он дал
мне слово, но, правда, тоном, каким успокаивают неразумного ребенка. И сдержал
его? Нет! И с этих пор я уже никогда не смогу доверять его слову! Мучительное
признание! Я пишу это со слезами. Уехал он в начале марта, а вернулся только в
июле! И в отличие от прошлого раза даже не потрудился придумывать предлоги и
извинения. Писал он тоже гораздо реже – и не только короче, но без прежней
нежности, особенно после первых недель. От письма до письма проходило все
больше времени, каждое было суше и пренебрежительнее предыдущего, однако стойле
мне пропустить почту, как он упрекал меня за невнимание к нему. Если я писала
строго и холодно – как, признаюсь, в последние месяцы его отсутствия случалось
не так уж редко, он сетовал на мою суровость и утверждал, что просто боится
вернуться домой. Когда же я только ласково ему пеняла, он отвечал почти ласково
и обещал вскоре приехать, но я наконец научилась не ставить его обещания ни во
что.
Какие
тягостные были эти четыре месяца! Меня попеременно терзали мучительная тревога,
отчаяние и негодование. Жалость к нему и жалость к себе. Однако мрак все же не
был беспросветным – я находила утешение в моем милом, безгрешном, ласковом
малютке. Однако и это утешение отягощала мысль: «Как сумею я научить моего
мальчика уважать своего отца, но не брать с него примера?»
Но я ни
на минуту не забывала, что все эти горести в какой-то мере навлекла на себя
сама в слепом упрямстве, и твердо решила переносить их, не ропща. И еще я
решила, что не буду терзать себя за поступки другого, и пыталась находить
всяческие отвлечения. Кроме общества моего ребенка и милой верной Рейчел,
которая, несомненно, догадывается о моих печалях и жалеет меня, хотя достаточно
тактична, чтобы никак этого не показывать, у меня ведь есть книги и карандаши,
домашние дела, а также бедные арендаторы и работники Артура, чью жизнь я
призвана облегчить в доступной мне мере. А порой я искала и находила
развлечение в обществе моей юной подружки Эстер Харгрейв. Обычно я отправлялась
верхом навестить ее, но раза два она гостила у меня по целому дню. На этот
сезон миссис Харгрейв в столицу не поехала. Дочери на выданье у нее пока еще
нет, и она сочла за благо остаться в деревне и поберечь деньги, и – чудо из
чудес! – в начале июня домой приехал Уолтер и пробыл там почти до конца
августа.
В первый
раз я увидела его в теплый, душистый вечер, когда прогуливалась в парке с маленьким
Артуром и Рейчел, старшей няней и камеристкой в одном лице. Ведь в моем
уединении мне, во всем предпочитающей самостоятельность, постоянные услуги
горничной не требуются, она же, вынянчив меня, мечтала пестовать и моего
ребенка, и, зная ее надежность, я предпочла возложить эту важную обязанность на
нее, взяв ей в помощь молоденькую девушку, что, кстати, позволило сэкономить
некоторую сумму – обстоятельство, которому я с тех пор, как ознакомилась с
делами Артура, придаю большое значение. Ведь по моему желанию весь доход, который
приносит мне состояние, уходит на покрытие его долгов – в Лондоне он умудряется
проматывать невообразимые суммы! Но вернусь к мистеру Харгрейву. Я стояла с
Рейчел на берегу и забавляла смеющегося малютку у нее на руках, покачивая перед
ним золотые сережки на веточке ивы, как вдруг, к большому моему удивлению,
увидела, что в воротах парка появился мистер Харгрейв на вороном гунтере,
который, как я знала, обошелся ему недешево. Он свернул на лужайку, подъехал ко
мне и поздоровался, одарив меня изящнейшим комплиментом, который, несмотря на
скромную непринужденность тона, несомненно, долго придумывал и оттачивал по
дороге. Затем объяснил, что его матушка, узнав, что он едет в эту сторону,
поручила ему передать мне ее просьбу – пожаловать к ним завтра на тихий
семейный обед.
– Никого,
кроме вас, мы не зовем, – продолжал он. – Но Эстер очень по вас
соскучилась, а маменька боится, что в этом большом опустелом доме вы порой
чувствуете себя одиноко и грустите. Ей очень хотелось бы уговорить вас почаще
доставлять ей удовольствие своим присутствием и чувствовать себя в нашей
смиренной обители как у себя дома, пока возвращение мистера Хантингдона вновь
не вернет прежнюю привлекательность вашему семейному очагу.
– Она
очень добра, – ответила я – но, как видите, я вовсе не одинока, а тем, чьи
дни заняты подобными хлопотами, грустить некогда.
– Так
вы завтра не приедете? Она будет очень огорчена, если вы откажетесь!
Мне не
слишком понравилось это непрошенное сострадание к моему одиночеству, но тем не
менее я обещала приехать.
– Какой
чудный вечер! – заметил мистер Харгрейв, обводя взглядом раззолоченный
заходящим солнцем парк, красивый пригорок, зеркальные воды озера и купы
величавых деревьев. – И в каком раю вы живете!
– Да,
вечер прелестный, – ответила я со вздохом, думая, как мало радует меня его
прелесть и как прекрасный Грасдейл обернулся вовсе не раем не только для меня,
но, видимо, и для добровольного изгнанника из его кущей. Не знаю, прочел ли
мистер Харгрейв мои мысли или нет, но после короткого колебания он с мягким
сочувствием осведомился, давно ли писал мне мистер Хантингдон.
– Довольно
давно, – ответила я.
– Иначе
и быть не могло, – произнес он словно про себя, задумчиво опуская глаза.
– Но
вы ведь из Лондона недавно? – в свою очередь спросила я.
– Я
приехал только вчера.
– И
вы виделись с ним там?
– Да…
виделся.
– Он
здоров и весел?
– Да…
то есть, – продолжал он с нарастающей нерешительностью и словно подавляя
негодование, – то есть настолько, насколько… насколько он того
заслуживает, хотя в подобных обстоятельствах просто невозможно понять человека,
столь взысканного судьбой! – И он, подняв глаза, завершил свою фразу
почтительным поклоном в мою сторону. (Мое лицо, полагаю, стало пунцовым.)
– Простите
меня, миссис Хантингдон, – продолжал он, – но мне трудно сдержать
возмущение, когда я вижу столь слепое увлечение и извращенность вкуса… Но быть
может, вампе известно… – Он смолк на полуслове.
– Мне
известно, сэр, только то, что он задерживается в Лондоне дольше, чем я
предполагала. И если он сейчас предпочитает общество друзей обществу жены и
рассеянность столичной жизни мирному сельскому уединению, то, полагаю,
благодарить за это я должна их же. Ну, а вкусы и развлечения у них такие же,
как у него, и не понимаю, почему его поведение может их удивлять или возмущать.
– Вы
ко мне жестоко несправедливы, – возразил он. – Последние недели я с
мистером Хантингдоном совсем не встречался, а что до его вкусов и занятий, они
чужды мне, бедному одинокому скитальцу. Там, где я лишь пробовал, лишь делал
один глоток, он выпивал чашу до последней капли вместе со всем, что оседало на
дне. И если я все же пытался порой заглушить голос рассудка шумом веселья в
вихре безумств, если я потратил слишком много своего времени и способностей в
кругу распущенных и легкомысленных приятелей, Бог свидетель, я с восторгом отрекся
бы от них сразу и навеки, если бы судьба одарила меня хотя бы половиной того,
чем этот человек столь неблагодарно пренебрегает! Да, хотя бы половиной того,
чем был бы он вознагражден, если бы обратился к добродетели, семейным радостям,
упорядоченным привычкам! Но обладая таким домом и такой подругой
жизни, чтобы делить его с ней, о, это… это… мерзко! – пробормотал он
сквозь стиснутые зубы. – Только не думайте, миссис Хантингдон, –
продолжал он уже громко, – что на мне лежит хоть доля вины за его нынешнее
поведение. Напротив, я вновь и вновь пытался заставить его опомниться. Я часто
выражал ему свое удивление, негодующе напоминал ему о его долге, о дарованном
ему счастье, но тщетно! Он лишь…
– Довольно,
мистер Харгрейв! Неужели вы не понимаете, что каковы бы ни были поступки моего
мужа, зло только усугубится, если я узнаю о них из чужих уст?
– Так
я чужой? – произнес он печальным голосом. – Я ваш ближайший сосед,
крестный вашего сына, друг вашего мужа – так неужели я не могу быть и вашим
другом?
– Истинная
дружба невозможна без близкого знакомства, а я вас знаю очень мало, мистер
Харгрейв, и то больше понаслышке.
– Так,
значит, вы забыли те шесть-семь недель, которые я прошлой осенью провел под вашим
кровом? Но я, я их не забыл! И я знаю вас так хорошо, миссис Хантингдон, что не
могу не считать вашего мужа первым счастливцем в мире, а я стал бы вторым, если
бы вы сочли меня достойным вашей дружбы.
– Если
бы вы меня и правда знали, то не думали бы так, и уж во всяком случае не сказали
бы этого, полагая, будто я буду польщена.
Договорив,
я сделала шаг назад. Он понял, что продолжать разговор я не хочу, не стал дожидаться
еще одного намека, но учтиво поклонился, пожелал мне доброго вечера и направил
своего коня к воротам. Казалось, он был огорчен и обижен тем, как сурово я
встретила его сочувственные поползновения. Я не была вполне убеждена, что
поступила верно, столь резко его оборвав, но его поведение меня раздражило,
почти оскорбило. Словно то обстоятельство, что мой муж не возвращается и даже
почти не пишет, он стремился использовать в каких-то своих целях и темными
намеками старался внушить мне недостойные подозрения.
Во время
нашей беседы Рейчел отошла в сторону, и теперь мистер Харгрейв, подъехав к ней,
попросил показать ему младенца. Осторожно подхватив его на руки, он поглядел на
него почти с отцовской улыбкой, и, подходя к ним, я услышала его слова:
– И
этим он тоже пренебрег!
Затем,
нежно поцеловав малютку, мистер Харгрейв вернул его польщенной нянюшке.
– Вы
любите детей, мистер Харгрейв? – спросила я, несколько смягчаясь.
– Вообще,
пожалуй, нет, – ответил он. – Но это такое прелестное дитя… и к тому
же портрет своей матери, – добавил он, понижая голос.
– Вы
ошибаетесь, сэр. Он похож на отца.
– А
по-моему, прав я, верно, няня? – воззвал он к Рейчел.
– Я
думаю, сэр, он в них обоих пошел, – ответила она.
Затем он
ускакал, а Рейчел сказала: «Такой добрый джентльмен!» Однако я все еще не слишком
в этом уверена.
Когда на
другой день я встретилась с ним под его кровом, он ни разу не оскорбил меня
вспышкой добродетельного негодования против Артура или непрошенного сочувствия
ко мне. Напротив, когда его матушка принялась обиняками выражать, как огорчает
и поражает ее поведение моего мужа, он, заметив мою досаду, тотчас поспешил ко
мне на выручку и тактично переменил разговор, взглядом предупредив ее, чтобы
она больше этой темы не касалась. Он словно положил себе рьяно соблюдать законы
радушия и прилагал все силы, чтобы гостья не скучала, но каждую минуту
убеждалась, какой он безукоризненный хозяин дома, джентльмен и собеседник – и
действительно сумел быть очень милым… хотя чуть-чуть уж слишком
приторно-любезным. Тем не менее, мистер Харгрейв, вы мне не слишком нравитесь.
Есть в вас какое-то притворство, глубоко мне неприятное, а за всеми
превосходными вашими качествами прячется себялюбие, про которое я забывать не
намерена. Да, я не стану преодолевать легкое предубеждение против вас, как несправедливое,
а наоборот, буду его лелеять, пока не удостоверюсь, что у меня нет причин не
доверять этой заботливой, вкрадчивой дружбе, которую вы столь настойчиво мне
навязываете.
В
течение следующих шести недель я виделась с ним несколько раз, но – за одним
исключением – только в обществе его матери или сестры, или их обеих. Когда я
приезжала к ним с визитом, он всегда умудрялся быть дома, а когда они приезжали
ко мне, привозил их он в своем фаэтоне. Нетрудно было заметить, как радовала
его матушку такая сыновняя внимательность и новообретенный вкус к домашней
жизни.
Единственная
наша встреча наедине случилась в безоблачный, но невыносимо жаркий день в
начале июля. Я ушла с маленьким Артуром в лес, который примыкает к парку, и
усадила его среди мшистых корней старого дуба. Нарвав колокольчиков и
шиповника, я встала перед ним на колени и один за другим вкладывала цветки в
его пальчики, наслаждаясь небесной их красотой, глядя в его улыбающиеся глазки,
забыв на мгновение все свои заботы и тревоги, смеясь его веселому смеху и
радуясь его радости. Вдруг солнечное кружево на траве скрыла тень, и, повернув
голову, я увидела, что рядом стоит Уолтер Харгрейв и смотрит на нас.
– Простите
меня, миссис Хантингдон, – сказал он, – но я был заворожен! У меня не
хватило духу ни сделать еще один шаг и помешать вам, ни оторваться от
созерцания этой чарующей картины и тихо уйти! Каким крепышом становится мой
маленький крестник и какой он сегодня веселый!
Тут он
нагнулся к мальчику и хотел взять его за руку, но, заметив, что его ласка
вместо приветливой улыбки вот-вот вызовет слезы и вопли, благоразумно
попятился.
– Какой
радостью и каким утешением должен служить вам, миссис Хантингдон, ваш прелестный
малыш, – заметил он с легкой грустью в голосе, не спуская с малютки
восхищенного взора.
– Да,
вы правы, – ответила я и справилась о здоровье его матушки и сестры.
Он
вежливо ответил и вернулся к теме, от которой я пыталась уклониться, –
однако с некоторой робостью, словно опасаясь рассердить меня.
– У
вас давно не было известий от Хантингдона?
– На
этой неделе нет, – ответила я, хотя точнее было бы сказать: «Вот уже три
недели!»
– Утром
я получил от него письмо. Жалею только, что не такое, какое мог бы показать его
супруге! – Тут он наполовину вытащил из жилетного кармана письмо с
адресом, начертанным все еще любимой рукой Артура, хмуро глянул на него,
засунул обратно и добавил: – Но он извещает меня, что приедет на будущей
неделе.
– Мне
он это сообщает в каждом своем письме!
– Ах,
вот как! Что же, совсем в его духе! Однако мне он с самого начала
сказал, что намерен пробыть в Лондоне до этого месяца.
Такое
доказательство предумышленного обмана и непрерывного пренебрежения истиной было
как пощечина.
– Это
вполне согласуется со всем его поведением, – заметил мистер Харгрейв,
внимательно глядя на меня и, полагаю, верно истолковав выражение на моем лице.
– Так,
значит, он действительно приедет на следующей неделе? – сказала я,
прерывая молчание.
– О,
не сомневайтесь… Если подобная уверенность может быть вам приятна. Но неужели
же, миссис Хантингдон, вы способны радоваться его возвращению? –
воскликнул он, вновь пристально вглядываясь в мое лицо.
– Разумеется,
мистер Харгрейв. Ведь он мой муж, не так ли?
– Ах,
Хантингдон, ты не ведаешь, чем ты пренебрегаешь! – с чувством
прошептал он.
Я взяла
моего малютку на руки и, пожелав мистеру Харгрейву доброго утра, вернулась домой,
чтобы предаться своим мыслям без чьего-либо надзора.
Правда
ли, что я рада? Да. И безумно. Хотя и сержусь на Артура за его поведение, хотя
и чувствую, что он поступал со мной дурно, и намереваюсь дать почувствовать это
и ему.
|


