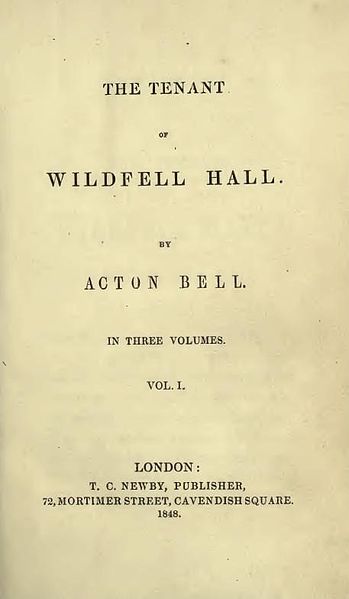
 Увеличить Увеличить |
Глава XVII
ДАЛЬНЕЙШИЕ
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ
На
следующий день я отправилась с дядей и тетушкой на обед к мистеру Уилмоту. У
него гостили две барышни, его племянница Аннабелла, очень красивая, со смелыми
манерами, – ей уже двадцать пять лет, но, по ее собственным словам, она
слишком большая кокетка, чтобы выйти замуж (хотя мужчины почти все ею
восхищаются и называют чаровницей), – и ее кузина Милисент Харгрейв,
которая прямо-таки влюбилась в меня, потому что я кажусь ей совсем не тем, что
я есть. В ответ я очень к ней привязалась. И неприязнь, которую мне внушают мои
столичные знакомые женского пола, на бедняжку Милисент не распространяется. Но
этот обед я вспоминаю не из-за Милисент или ее кузины, но из-за того, что среди
гостей мистера Уилмота оказался и мистер Хантингдон. Это обстоятельство не
изгладилось из моей памяти потому, что я с тех пор его больше не видела.
За
обедом он сидел далеко от меня, ибо волей судеб в пару ему назначили дородную
вдовицу преклонных лет, а моим кавалером оказался мистер Гримсби, его приятель,
но весьма неприятный человек. (В лице у него таится что-то зловещее, а манеры
под слащавой неискренностью прячут какую-то свирепую грубость, и его соседство
было мне невыносимо.) Кстати, какой это глупый обычай! Один из тех, что
превращают ультрацивилизованную светскую жизнь в мучение! Уж если мужчинам
обязательно сопровождать дам в столовую, то почему им нельзя приглашать тех,
кого они предпочли бы?
Однако я
вовсе не уверена, что мистер Хантингдон, будь на то его воля, попросил бы меня
быть его соседкой за столом. Вполне возможно, что выбор его пал бы на мисс
Уилмот, которая, казалось, всячески старалась завладеть его вниманием, а он был
совсем не прочь приносить ей дань преклонения, которую она требовала. Во всяком
случае, так я заключила, наблюдая, как они переговариваются через стол и
смеются к большому негодованию своих забытых соседей. И потом, едва джентльмены
присоединились к нам в гостиной, она сразу подозвала его к себе, чтобы он
рассудил спор между ней и другой барышней, а он, тотчас подойдя к ним,
мгновенно признал ее правой, хотя, по-моему, ошибалась как раз она. Он остался
возле нее и весело болтал с ней и другими девицами и молодыми дамами, а я
сидела рядом с Милисент в противоположном углу, рассматривала ее рисунки,
указывала на их недостатки и давала ей советы, потому что она меня об этом
попросила. Но как я ни старалась сохранять равнодушие, мой взгляд то и дело
отрывался от рисунков и обращался на веселый кружок, и во мне поднимался
непрошеный гнев, видимо омрачивший мое лицо, так как Милисент скоро сказала,
что мне, наверное, надоела ее пачкотня – пусть лучше я вернусь к обществу, а
рисунки досмотрю как-нибудь в другой раз… Я принялась заверять, что мне вовсе
не хочется уходить от нее, что мне очень интересно, но тут к круглому столику,
за которым мы устроились, подошел не кто иной, как сам мистер Хантингдон.
– Они
ваши? – спросил он, небрежно взяв в руки один лист.
– Нет,
мисс Харгрейв.
– А-а!
Ну что же, поглядим!
И, не
слушая заверений мисс Харгрейв, что они не стоят его внимания, он придвинул
стул ко мне и начал брать из моих рук лист за листом, но после беглого взгляда
бросал на стол, ни слова о них не упоминая, хотя не умолкал ни на секунду. Не
знаю, что думала о таком поведении Милисент Харгрейв, но мне разговор с ним
показался на редкость интересным, хотя когда я позже перебирала в уме все, что
услышала, то не могла вспомнить почти ничего, кроме вышучивания большинства
присутствовавших. Некоторые его наблюдения были очень умны, а другие очень
смешны, но если их записать, они покажутся почти банальными. Ведь главным были
выражение его лица, тон, жесты и то неотразимое и неизъяснимое очарование,
которое словно ореолом одевает все, что он делает и Говорит. Из-за этого
очарования трудно было оторвать от него взгляд, оно превратило бы его голос в
музыку, даже если бы говорил он скучный вздор, – и оно же заставило меня
рассердиться на тетушку, когда она прервала нашу восхитительную беседу под предлогом,
что тоже хочет взглянуть на рисунки. А ведь нисколько не интересуется
искусством и ничего в нем не понимает! Перебирая листы, тетушка самым холодным
и сухим своим тоном начала задавать мистеру Хантингдону самые банальные и
пустые вопросы, только чтобы отвлечь его от меня – чтобы досадить мне, решила
я, и, посмотрев последний рисунок, оставила их и села на диванчик вдали от
остального общества, даже не подумав, каким странным может показаться подобное
поведение. Вначале я просто поддалась своей досаде, а затем погрузилась в
размышления.
Впрочем,
я недолго оставалась одна – мистер Уилмот, наиболее неприятный мне из всех
находившихся в комнате джентльменов, заметил, что я уединилась, и поспешил
усесться рядом со мной. Мне казалось, я столь успешно охлаждала его пыл во всех
наших прежних разговорах, что могла более ничего не опасаться, но, видимо, я
ошибалась. Так глубоко он верил в неотразимость то ли своего богатства, то ли
былой галантности и настолько не сомневался в слабости женщин, что, ничтоже
сумняшеся, возобновил осаду с прежней настойчивостью, к тому же подогретой
винными возлияниями. Последнее обстоятельство сделало его еще омерзительнее. Но
как ни был он мне противен, обойтись с ним грубо я не хотела – ведь я была его
гостьей и только что вкусила его хлеба, а как избавиться от него решительно, но
вежливо, я не знала. Впрочем, это вряд ли помогло бы: он настолько лишен
деликатности чувств, что остановить его могла бы наглость, равная его
собственной. Он только все больше рассыпался в притворных нежностях, все больше
разгорячался, и я в отчаянии уже собиралась сказать сама не знаю что, как вдруг
моя рука, лежавшая на ручке диванчика, ощутила ласковое, но жаркое пожатие. Я
сразу же инстинктивно поняла, кто это, и, повернувшись, увидела перед собой
улыбающегося мистера Хантингдона не столько с удивлением, сколько с восторгом.
Словно от гнусного демона в Чистилище меня заслонил ангел света, явившийся
возвестить, что моим мучениям пришел конец.
– Хелен, –
сказал он. (Он часто называл меня Хелен, и такая свобода обращения ничуть меня
не сердила.) – Вам непременно надо взглянуть на эту картину. Мистер
Уилмот, конечно, извинит вас, если вы покинете его.
Я
поспешно встала, он взял меня под руку и повел к противоположной стене, которую
украшала чудная картина Ван Дейка, которую я давно заметила, но еще не имела
случая рассмотреть внимательно. После минутного молчаливого созерцания я было
заговорила о ее необыкновенных достоинствах и особенностях, но он шаловливо
погладил мою руку, все еще удерживая ее на сгибе своего локтя, и перебил меня
словами:
– Забудьте
про картину, я вас сюда привел не ради нее, а чтобы избавить от ухаживаний старого
селадона, который сейчас смотрит на меня так, словно собирается прислать мне
вызов за такой афронт.
– Я
вам очень-очень обязана, – сказала я. – Вы уже второй раз спасаете
меня от неприятных собеседников!
– Ну,
это не стоит благодарности, – возразил он. – Ведь я поступил так не
только потому, что хотел выручить вас. Меня толкнула на это еще и досада на
ваших мучителей: я был просто в восторге, что могу щелкнуть старичков по носу,
хотя, мне кажется, особых причин опасаться их как соперников у меня нет. Не
правда ли, Хелен?
– Вы
знаете, что я не выношу их обоих.
– Вместе
со мной?
– Для
этого у меня нет причин.
– Но
какие чувства вы испытываете ко мне? Хелен, отвечайте! Как вы относитесь ко
мне?
И вновь
он пожал мою руку. Но мне почудилось, что в его выражении было больше властности,
чем нежности, да и какое право имел он вырывать у меня признание в
благосклонности, если сам о своих чувствах не сказал ни слова? От растерянности
я не знала, что ответить. Наконец, я пробормотала:
– А
как вы относитесь ко мне?
– Прелестный
ангел, я вас обожаю! Я…
– Хелен,
ты мне нужна, – тихо, но явственно произнес голос тетушки совсем рядом, и
я оставила его шепотом осыпать проклятиями своего злого ангела.
– Что
такое, тетя? – спросила я, следуя за ней в эркер. – Зачем я вам
нужна?
– Я
хочу, чтобы ты присоединилась к обществу, когда примешь приличный вид, –
ответила она, сурово меня оглядывая. – Но будь добра, останься здесь, пока
эта непристойная краска не сойдет с твоих щек, а твои глаза не обретут обычного
выражения. Мне стыдно подумать, что кто-то заметит, в каком ты виде!
Естественно,
от таких слов «непристойная краска» не только не отхлынула от моих щек, но
начала их жечь огнем, который раздували разные чувства, но особенно возмущение
и даже гнев. Тем не менее я промолчала и, откинув занавеску, поглядела в
темноту – а вернее, на озаренную фонарями площадь.
– Мистер
Хантингдон делал тебе предложение, Хелен? – спросила моя чересчур наблюдательная
дуэнья.
– Нет.
– Тогда,
что же он говорил? То, что услышала я, очень походило на объяснение.
– Я
не знаю, что он сказал бы, если бы вы его не перебили.
– Но
если бы он сделал тебе предложение, ты приняла бы его, Хелен?
– Разумеется,
нет… Не посоветовавшись прежде с дядей и с вами.
– А!
Я рада, милочка, что ты еще сохраняешь какое-то благоразумие. Ну, а
теперь, – добавила она после краткого молчания, – постарайся больше
не привлекать к себе внимания. Я вижу, дамы удивленно на нас поглядывают. Я
пойду к ним, а ты подожди, пока не успокоишься и не возьмешь себя в руки.
– Я
уже спокойна.
– В
таком случае не повышай голоса и не гляди так злобно, – ответила моя
невозмутимая, но язвительная тетушка. – Вскоре мы вернемся домой, и
тогда, – добавила она с мрачной многозначительностью, – я должна буду
сказать тебе еще многое.
И всю
недолгую дорогу домой я ожидала грозных нравоучений. В карете мы обе хранили
молчание. Но когда я поднялась к себе в комнату и бросилась в кресло, чтобы
обдумать события вечера, тетушка вошла следом за мной, отослала Рейчел, которая
убирала в шкатулку мои драгоценности, закрыла за ней дверь и, поставив стул
рядом с креслом, а точнее, под углом к нему, села. Разумеется, я тотчас хотела
уступить ей свое кресло, но она остановила меня и начала:
– Хелен,
ты помнишь наш разговор перед тем, как мы уехали из Стейнингли?
– Да,
тетя.
– И
помнишь, как я просила тебя остерегаться, чтобы кто-нибудь недостойный не
похитил твое сердце? Как предупреждала, чтобы ты не дарила своего чувства, если
им не руководит одобрение, если рассудок и осмотрительность противятся…
– Да,
но мой рассудок…
– Извини…
ты помнишь, как заверяла меня, что опасаться за тебя нечего, что у тебя даже соблазна
возникнуть не может выйти за человека пустого или без нравственных принципов,
каким бы красивым и очаровательным он ни казался? Что такого человека ты
полюбить не способна, что можешь его ненавидеть, презирать, жалеть, но только
не любить? Это твои слова?
– Да,
но…
– И
разве ты не сказала, что твоим чувством должно руководить одобрение,
что, не одобряя, не уважая, не почитая, ты любить не можешь?
– Да.
Но я и одобряю, и уважаю, и почитаю…
– Как
так, милочка? Разве мистер Хантингдон хороший человек?
– Он
гораздо лучше, чем вы его считаете.
– Речь
не об этом. Хороший ли он человек?
– Да,
в некоторых отношениях. У него добрые задатки.
– А
нравственные принципы у него есть?
– Может
быть… не совсем. Но только по некоторому легкомыслию. Если бы кто-то рядом с
ним давал ему советы, напоминал, что достойно…
– То
он скоро научился бы разбирать, что хорошо, а что дурно? А ты с удовольствием
стала бы его наставницей? Но, милочка, он, если не ошибаюсь, старше тебя на
полных десять лет, так каким же образом ты опередила его в нравственной
зрелости?
– Благодаря
вам, тетя, я получила нравственное воспитание и всегда видела перед собой хорошие
примеры, чего он, вероятно, был лишен. К тому же у него сангвиническая натура, он
весел и беззаботен, а я склонна к задумчивости.
– Из
твоих же слов выходит, что он пустой человек без нравственных принципов, а по
твоему собственному признанию…
– К
его услугам мои принципы, моя рассудительность…
– Это
похоже на похвальбу, Хелен. Ты полагаешь, что наделена ими на двоих? И воображаешь,
что твой веселый, беззаботный повеса допустит, чтобы им руководила молоденькая
девчонка вроде тебя?
– Нет.
Я вовсе не хочу им руководить. Но мне кажется, что у меня достанет влияния
спасти его от некоторых ошибок, и я считаю, что моя жизнь не пройдет напрасно,
если я посвящу ее тому, чтобы спасти столь благородную душу от гибели. Он
теперь всегда слушает очень внимательно, когда я говорю с ним на серьезные темы
(а я часто осмеливаюсь пенять ему за слишком шутливую манеру выражаться), и не
раз повторял, что, будь я всегда рядом с ним, он бы не делал и не говорил
ничего дурного, и одного короткого разговора со мной, но только каждый день,
было бы довольно, чтобы сделать из него святого. Конечно, это отчасти шутка,
отчасти лесть, и все же…
– И
все же ты полагаешь, что это правда?
– Если
я полагаю, что в его словах есть правда, то потому лишь, что верю не в свое
влияние, а в природное благородство его натуры. И вы напрасно называете его
повесой, тетя. Он вовсе не повеса!
– Кто
тебе это сказал, милочка? А слухи о его интрижке с замужней дамой, с леди…
леди… как бишь ее там? Ведь мисс Уилмот на днях рассказала тебе всю историю.
– Это
ложь! Ложь! – вскричала я. – Не верю ни единому слову.
– Значит,
ты считаешь его добродетельным, во всех отношениях порядочным человеком?
– Я
знаю только, что не слышала о нем ничего плохого – то есть ничего, чему было-бы
хоть малейшее доказательство. А я не верю никаким самым черным обвинениям, пока
они остаются недоказанными. И в одном я убеждена: если он и совершал ошибки, то
лишь свойственные молодости, каким никто значения не придает. Ведь я вижу, как
он всем нравится, как улыбаются ему все маменьки и как все барышни – и мисс
Уилмот среди них – ждут не дождутся, чтобы он их заметил.
– Хелен,
пусть свет смотрит сквозь пальцы на такое поведение, пусть находятся безнравственные
матери, которые ловят для своих дочерей богатых женихов, невзирая на их
репутацию, пусть глупые девчонки радуются улыбкам веселого красавца и не
стараются заглянуть глубже, но мне казалось, что ты выше того, чтобы смотреть
их глазами и судить с их легкомыслием. Я не думала, что ты сочтешь подобные
ошибки ничего не значащими!
– Вовсе
нет, тетя, но хотя я ненавижу грехи, я люблю грешника и готова на многое ради
его спасения, даже если предположить, что ваши подозрения в большинстве своем
справедливы – чему я не верю, и никогда не поверю!
– Что
же, милочка, спроси у своего дяди, в каком обществе он вращается, каких
распутных молодых людей называет закадычными друзьями, веселыми товарищами
своих забав, спроси, с каким наслаждением они предаются пороку и соперничают
друге другом, кто быстрее ринется в пропасть, уготованную духу зла и ангелам
его.
– Тогда
я спасу его от них!
– Ах,
Хелен, Хелен! Ты не понимаешь, на какие горести обрекаешь себя, связывая свою
судьбу с подобным человеком!
– Я
уверена в нем, тетя, что бы вы ни говорили, и с радостью рискну своим счастьем
ради него. А тех, кто лучше, я оставлю тем, кто думает лишь о собственном
благополучии. Если он поступал неверно, я постараюсь употребить мою жизнь на
то, чтобы спасти его от последствий ошибок молодости, вернуть на путь
добродетели. И дай мне Бог преуспеть в этом!
Тут наш
разговор прервал голос дяди, громко требовавшего, чтобы тетя шла наконец спать.
Он был в очень дурном расположении духа, потому что у него разыгралась подагра,
которая начала его терзать, едва мы приехали в Лондон, и тетушка,
воспользовавшись этим, утром убедила его немедленно вернуться в деревню, пусть
сезон еще не кончился. Врач всячески ее поддержал, и вопреки своему обыкновению
она так поторопилась со сборами (мне кажется, столько же ради меня, сколько
ради дядюшки), что мы уехали через два дня, и я больше не видела мистера Хантингдона.
Тетушка льстит себя мыслью, что я его скоро забуду, а возможно, думает, что он
уже забыт, – ведь я ни разу не упомянула его имени. И пусть остается в
этом убеждении, пока мы вновь не встретимся – если когда-нибудь встретимся.
|


