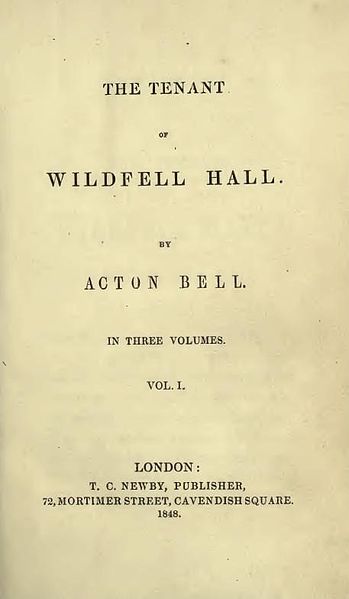
 Увеличить Увеличить |
Глава II
ВСТРЕЧА
С
большой радостью, мой самый дорогой друг, я убедился, что облако твоей досады
уплыло прочь, ты вновь сияешь мне, как прежде, и желаешь узнать продолжение
моей истории. Так получи же его без дальнейших проволочек!
По-моему,
я остановился на воскресенье – последнем в октябре 1827 года. Во вторник после
него я с собакой и ружьем отправился на поиск той дичи, которую мог бы найти в
пределах Линден-Кара, но не нашел. Тогда я решил обратить свое оружие против
ястребов и хищных ворон, чей разбой, по моему убеждению, и лишил меня более
желанных трофеев. А потому я покинул приветливые лесные долины, хлебные поля и
обширные луга ради крутых склонов Уайлдфелла – самого высокого и дикого холма в
нашем краю. Я поднимался все выше, а живые изгороди и деревья становились все
более низкими и чахлыми. Затем первые сменились стенками, сложенными из
нетесанных камней, от вторых же кое-где остались лишь лиственницы да ели и
одинокие кусты терновника. Твердая каменистая земля не годилась под посевы и служила
пастбищем для скота и овец. Слой тощей почвы был очень тонок, и из травянистых
кочек торчали серые камни, под стенками ютились голубика и вереск, наследие
первозданной дикости, а во многих местах траву заглушали осока и амброзия… Но
ведь земля эта принадлежала не мне!
Почти у
самой вершины в двух милях от Линден-Кара стоял Уайлдфелл-Холл – старинный
господский дом елизаветинских времен, построенный из серого камня, весьма
благородный и живописный на вид, но внутри, без сомнения, холодный и темный.
Узкие окна с частыми переплетами в толще стен, разъеденные временем
вентиляционные отверстия, безлюдие вокруг, открытость всем ветрам и непогодам,
от которых его не могли защитить посаженные с этой целью ели, давно
изуродованные бурями, столь же мрачные и угрюмые, как само здание, – все
это делало его малопригодным для обитания. Позади него виднелись два-три чахлых
луга и бурая от вереска вершина, а перед ним (обнесенный каменной оградой с
чугунными воротами между каменными столбами, которые увенчивались шарами из
серого гранита, такими же, какие украшали парапет и башенки) располагался сад,
где некогда взращивались цветы и травы, достаточно нетребовательные к почве и
закаленные против капризов погоды, а также деревья и кусты, наиболее покорно
принимающие под жесткими ножницами садовника те формы, какие решала придать им
его фантазия. Теперь же, на долгие годы предоставленный самому себе, брошенный
без ухода на жертву заморозкам и засухе, ливням и бурям, заросший бурьяном, сад
являл собой странное зрелище. Окаймлявшая главную аллею живая изгородь из
бирючины на две трети засохла, а оставшаяся треть нелепо разрослась, куст,
некогда подстриженный в виде лебедя, утратил шею и половину туловища, пирамиды
лавров в центре сада, гигантский воин по одну сторону ворот и лев, охранявший
другую, буйно выбросили новые ветки и приобрели совсем уж фантастический вид,
подобие которому нельзя было найти ни на земле, ни на небе, а если на то пошло,
то и в воде. Однако моему юному воображению все они представлялись сказочными
чудищами вполне в духе тех жутких легенд и преданий, которыми пичкала нас наша
старая няня, повествуя о былых обитателях покинутого дома и о привидениях,
которые там являются.
К тому
времени, когда я вышел к Уайлдфелл-Холлу, мне удалось подстрелить ястреба и двух
ворон, но я уже оставил мысли о дальнейшей охоте и неторопливо направился к
старинной усадьбе поглядеть, насколько она изменилась после появления там новой
обитательницы. Разумеется, я не мог подойти к воротам и заглянуть внутрь, но
остановился у садовой ограды. Насколько я мог судить, все осталось прежним,
если не считать обновленной крыши и стекол, вставленных в разбитые окна одного
из флигелей, над трубами которого вился дымок.
Пока я
стоял там, опираясь на ружье, и предавался прихотливым фантазиям, в которых былые
ассоциации и молодая отшельница, поселившаяся теперь в этих старинных стенах,
играли главную роль, до моего слуха донесся шорох и какие-то поскребывания.
Взглянув в ту сторону, я увидел, как за верхний край ограды ухватилась
маленькая ручонка, к ней присоединилась другая, над серым камнем появился белый
лобик, обрамленный каштановыми кудрями, а затем пара синих глазенок и беленькая
переносица.
Глазенки
меня не заметили, но радостно уставились на Санчо, моего сеттера, черно-белого
красавца, который кружил по склону, пригибая морду к земле. Над стеной возникло
детское личико, и детский голосок окликнул «собачку». Добродушный пес
остановился, поднял морду и дружески вильнул хвостом, однако не проявил
никакого желания свести более близкое знакомство. Ребенок – мальчик лет пяти –
взобрался на верх ограды и продолжал звать собачку, но, убедившись в тщетности
своих окликов, видимо, решил последовать примеру Магомета и самому пойти к
горе, раз уж она не пожелала пойти к нему. Но едва он перевесился через ограду,
как его платьице зацепила одна из корявых веток, которые раскинула над ней
старая вишня. Малыш попытался высвободиться и сорвался со стены, однако не упал
на землю, а повис в воздухе, болтая ножонками и испуская громкие вопли. Но я
уже бросил ружье и подхватил бедняжку на руки, утер ему глаза краем платьица,
сказал, что бояться нечего, и подозвал Санчо, чтобы совсем его утешить.
Он как
раз обнял сеттера за шею и улыбнулся сквозь слезы, когда громко стукнула
калитка, послышался шелест женских юбок и ко мне подбежала миссис Грэхем – шея
ее не была укрыта даже шарфом, черные волосы развевались на ветру.
– Отдайте
мне ребенка! – сказала она тихо, почти шепотом, но яростно, и вырвала мальчика
из моих рук, словно оберегая от страшной заразы, а потом, сжимая его в
объятиях, устремила на меня огромные, сверкающие, темные глаза – бледная,
задыхающаяся от страшного волнения.
– Я
ничего дурного мальчику не сделал, сударыня, – сказал я, не зная,
удивляться ли мне или сердиться. – Он перелез через ограду, но, к счастью,
я успел подхватить его, когда он зацепился вон за тот сук, и предотвратил
возможную беду.
– Прошу
у вас прощения, сэр, – пробормотала она, внезапно успокаиваясь, словно
рассеялся туман, омрачивший ее рассудок. Бледные ее щеки чуть порозовели. –
Но мы с вами не знакомы, и я подумала…
Она
умолкла, поцеловала мальчика и нежно обвила рукой его шею.
– Подумали,
что я вознамерился похитить вашего сына?
Она
смущенно засмеялась, поглаживая его кудряшки.
– Мне
ведь в голову не пришло, что он способен перелезть через ограду… Я имею удовольствие
говорить с мистером Маркхемом, не правда ли? – внезапно спросила она.
Я
поклонился и не удержался от вопроса, как она догадалась о моем имени.
– Ваша
сестра несколько дней назад приезжала сюда с вашей матушкой.
– Неужели
мы так похожи? – воскликнул я с удивлением и отнюдь не столь полыценно,
как, возможно, следовало бы.
– Пожалуй,
цвет ваших волос и еще глаза… – ответила она, с некоторым сомнением взглянув
на мое лицо. – И по-моему, в воскресенье я видела вас в церкви.
Я
улыбнулся. Эта улыбка, а может быть, разбуженные ею воспоминания чем-то
раздражили миссис Грэхем. Во всяком случае, она вновь приняла тот гордый,
холодный вид, который задел меня в церкви – выражение неизмеримого презрения,
которое так гармонировало с ее чертами, что казалось естественным для них, пока
не исчезало, – и тем более меня злило, что я не мог счесть его притворным.
– Прощайте,
мистер Маркхем, – сказала она и ушла с мальчиком в сад, не удостоив меня
больше ни единым словом или взглядом.
Я задержался
для того, чтобы подобрать с земли ружье и пороховницу да объяснить дорогу
какому-то заблудившемуся на холме прохожему, а затем отправился в дом при
церкви, чтобы утешить оскорбленное самолюбие и развлечься в обществе Элизы
Миллуорд.
Как
обычно, она сидела за пяльцами, вышивая шелком (увлечение берлинской шерстью
еще не началось), а ее сестра с кошкой на коленях штопала в углу чулки – перед
ней их лежала целая груда.
– Мэри!
Мэри! Да убери же! – вскрикнула Элиза, увидев меня в дверях.
– И
не подумаю, – последовал невозмутимый ответ, а мое присутствие сделало
дальнейший спор невозможным.
– Вы
так неудачно пришли, мистер Маркхем, – продолжала Элиза с одним из своих
лукаво-поддразнивающих взглядов. – Папа только-только отправился куда-то
по приходским делам и вернется не раньше чем через час.
– Ничего,
на несколько минут я смирюсь и с обществом его дочерей, если на то будет их соизволение, –
ответил я, придвигая стул к камину и усаживаясь без приглашения.
– Ну,
если вы сумеете нас развлечь, мы возражать не станем.
– Э
нет! Без всяких условий! Ведь я пришел не развлекать, но развлечься! –
ответил я.
Но тем
не менее счел себя обязанным быть приятным собеседником и, видимо, преуспел в
своем намерении, так как мисс Элиза пришла в отличнейшее расположение духа. Довольные
друг другом, мы весело болтали о всяких пустяках. Это был почти тет-а-тет, так
как мисс Миллуорд хранила молчание, лишь изредка его прерывая, чтобы поправить
какое-нибудь чересчур уж легкомысленное утверждение своей сестрицы, и один раз
попросила ее поднять клубок, закатившийся под стол. Однако, естественно, поднял
его я.
– Спасибо,
мистер Маркхем, – сказала Мэри, беря клубок. – Я бы и сама за ним
встала, но не хочется будить кошечку.
– Мэри,
душка, это тебя в глазах мистера Маркхема не оправдывает! – заметила
Элиза. – Полагаю, он, как и все джентльмены, терпеть не может кошек, как и
старых дев. Правда, мистер Маркхем?
– Мне
кажется, наш суровый пол недолюбливает кошечек и птичек потому, что прекрасные
девицы и дамы изливают на них слишком уж много нежности.
– Но
ведь они такая прелесть! – в порыве неуемного восторга она вдруг
накинулась с поцелуями на любимицу сестры.
– Да
перестань же, Элиза! – сердито сказала та и нетерпеливо оттолкнула
шалунью.
Но мне
пора было уходить. Я вдруг спохватился, что, того и гляди, опоздаю к чаю, а
матушка отличалась редкой пунктуальностью.
Моя
прелестная собеседница попрощалась со мной весьма неохотно. Я нежно пожал ей ручку,
а она одарила меня самой ласковой своей улыбкой и чарующим взором. Я шел домой
очень счастливый: мое сердце полнилось самодовольством, а любовь к Элизе так
даже переливалась через его край.
|


