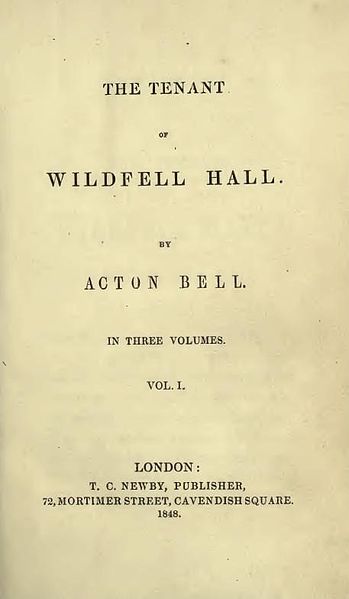
 Увеличить Увеличить |
Глава XXX
СЕМЕЙНЫЕ СЦЕНЫ
На
следующее утро я тоже получила от него несколько строк, подтверждавших то, что
сказал мне Харгрейв о его возвращении. И он действительно приехал на следующей
неделе – но в состоянии и телесном, и душевном даже еще худшем, чем в прошлом
году. Однако на этот раз я не собиралась молча спустить ему его проступки –
опыт убедил меня в ошибочности такой снисходительности. Только в первый день он
очень устал с дороги, а я так ему обрадовалась, что у меня не хватило духу
встретить его упреками, и я отложила этот разговор на следующий день. Утром он
все еще не отдохнул, и я решила подождать еще немного. Однако, когда во время
обеда, позавтракав в двенадцать часов бутылкой содовой с чашкой крепкого кофе и
удовлетворившись в два часа за вторым завтраком еще одной бутылкой содовой, но
на этот раз с коньяком, он принялся придираться ко всему, что подавалось на
стол, и потребовал, чтобы мы переменили кухарку, я подумала, что настала
подходящая минута.
– До
твоего отъезда, Артур, – заметила я, – ты был ею доволен и нередко ее
хвалил.
– Так,
значит, в мое отсутствие ты позволила ей совсем распуститься. Такой
отвратительной стряпней можно только отравиться! – Он капризно оттолкнул
тарелку и с унылым видом откинулся на спинку стула.
– По-моему,
изменился ты, а не она, – сказала я, но очень мягко, потому что не хотела
его раздражать.
– Может
быть, может быть! – ответил он небрежно, схватил рюмку с вином, плеснул в
нее воды, выпил залпом и продолжал: – Только в жилах у меня пылает адский
огонь, который не могут угасить все воды океана!
«Но что
его разожгло?» – собралась я спросить, но тут вошел дворецкий и начал убирать
со стола.
– Побыстрее,
Бенсон! Да прекратите же этот адский грохот! – воскликнул хозяин
дома. – И унесите сыр, если не хотите, чтобы меня сразу стошнило!
Бенсон с
некоторым удивлением унес сыр и продолжал убирать со стола, стараясь делать все
поскорее, но тихо. К несчастью, когда хозяин дома резко отодвинул стул, на
ковре образовалась складка, и он споткнулся, поднос с посудой в его руках
угрожающе накренился, но все обошлось довольно благополучно, только соусница
упала и разбилась. Тем не менее, к моему невыразимому стыду, Артур в ярости
обернулся и с простонародной грубостью выругал дворецкого. Тот побледнел, а
когда нагнулся подобрать осколки, я заметила, что руки у него дрожат.
– Он
ни в чем не виноват, Артур, – сказала я. – Нечаянно зацепился ногой
за ковер. И ведь ничего серьезного не случилось. Идите, Бенсон! Уберете потом.
Обрадованный
моим разрешением, Бенсон быстро подал десерт и вышел.
– Что
это значит, Хелен? – крикнул Артур, едва за ним закрылась дверь. – Ты
заодно со слугой против меня, когда знаешь, как я расстроен!
– Я
не знала, что ты расстроен, Артур, а бедный Бенсон был напуган и обижен твоей
неожиданной вспышкой.
– Бедный,
как бы не так! И по-твоему, я должен считаться с обидами такого бесчувственного
скота, хотя его проклятая неуклюжесть совсем истерзала мои нервы?
– В
первый раз слышу, что ты жалуешься на нервы.
– А
почему у меня не может быть нервов, как у тебя?
– Я
вовсе не оспариваю твое право иметь нервы, но я никогда на свои не жалуюсь.
– Конечно!
С какой стати тебе на них жаловаться, если ты их бережешь?
– Но
почему же ты не бережешь свои, Артур?
– По-твоему,
у меня только и дела, что сидеть дома и беречь себя, точно я женщина?
– А
беречь себя, как мужчина, уезжая из дома, ты не можешь? Ведь ты меня уверял в
обратном. И ты обещал…
– Ах,
Хелен, будет! Избавь меня хоть сейчас от этого вздора. Нестерпимо!
– Что
нестерпимо? Напоминание об обещаниях, которые ты не сдержал?
– Хелен,
до чего ты жестока! Если бы ты знала, какой болью каждое твое слово отдается у
меня в голове, как напрягается каждый мой нерв, ты бы меня пощадила! Ты
способна пожалеть болвана-слугу, бьющего посуду, но тебе ничуть не жаль меня,
хотя моя голова раскалывается и я весь горю от лихорадки.
Он
опустил голову на руки и тяжело вздохнул. Я подошла к нему, положила ладонь на
его лоб, который действительно пылал.
– Ну,
так пойди со мной в гостиную, Артур, и больше не пей вина. Ты уже выпил после
обеда несколько рюмок на совсем пустой желудок. Ведь так тебе станет только
хуже!
Упрашивая,
ласково настаивая, я сумела увести его и попробовала развлечь, распорядившись,
чтобы в гостиную принесли нашего малютку. Но у бедного маленького Артура
резались зубки, и он жалобно заплакал, чего его отец стерпеть не смог, и малыш
был тут же изгнан. Когда же некоторое время спустя я ушла на небольшой срок
разделить его ссылку, меня по возвращении осыпали упреками за то, что я
предпочитаю своего ребенка своему мужу, который возлежал на диване в той же
позе, в какой я его оставила.
– Что
же! – воскликнул оскорбленный страдалец фальшивым тоном, изображая
покорность судьбе. – Я решил не посылать за тобой. Я хотел убедиться, как
долго ты пожелаешь оставить меня одного!
– Но
ведь я отсутствовала не так уж долго, Артур, правда? Во всяком случае меньше
часа.
– Ну,
разумеется, тебе за приятными занятиями час показался пустяком, но для меня…
– Какие
приятные занятия? – перебила я. – Мне надо было покормить нашего
бедного малютку, а он нездоров, и я не могла уйти, пока его не убаюкала.
– О,
конечно, твоей доброты и жалости хватает на всех, кроме меня!
– Но
почему я должна тебя жалеть? Что с тобой?
– Нет,
это уж слишком! После стольких трудов и хлопот я, измученный и больной, возвращаюсь
домой в поисках покоя и утешения, жду от своей жены хоть каплю внимания и
доброты, а она спрашивает, что со мной случилось!
– Да
потому что с тобой ничего не случилось! – возразила я. – Кроме
того, что ты сам упрямо навлек на себя, как я ни просила тебя, ни уговаривала…
– Вот
что, Хелен, – объявил он, приподнимаясь на локте, – если я услышу от
тебя еще хоть слово, то позвоню, прикажу подать шесть бутылок вина… и, клянусь
Небом, не встану с этого дивана, пока не осушу до дна последнюю.
Я
промолчала, села к столу и взяла книгу.
– Если
ты отказываешь мне в каком бы то ни было утешении, то хотя бы оставь меня в покое, –
продолжал он, а затем принял прежнюю позу с нетерпеливым не то вздохом, не то
стоном и томно смежил веки, словно намереваясь уснуть.
Не знаю,
какая книга лежала передо мной открытая, – я не прочла ни единого слова.
Опершись о стол локтями по ее сторонам и опустив лоб на сплетенные пальцы, я
беззвучно плакала. Но Артур вовсе не спал, и, когда мне не удалось подавить
всхлипывание, он поднял голову, повернул ко мне лицо и раздраженно воскликнул:
– Какого
дьявола ты плачешь, Хелен? Что еще стряслось?
– Я
плачу по тебе, Артур, – ответила я, поспешила утереть слезы, быстро
подошла к дивану, опустилась на колени и, сжав в ладонях его вялую руку,
продолжала: – Разве ты не знаешь, что ты – часть меня? Так неужели ты думаешь,
что можешь вредить себе, ронять себя и я этого не приму к сердцу?
– Ронять
себя, Хелен?
– Да,
ронять. Что ты делал все это время?
– Лучше
не спрашивай, – сказал он со слабой улыбкой.
– А
ты лучше не говори! Но ты не можешь отрицать, что пал, и очень низко. Ты
позорно губишь свое тело, свою душу… и меня! Я не могу сносить это спокойно. И
не буду!
– Только
не сжимай мою руку так отчаянно и, во имя всего святого, не терзай меня так!
Ах, Хэттерсли! Ты был прав: эта женщина с ее утонченными чувствами и редкой
силой характера сведет меня в могилу! Ну, будет, будет! Пощади меня хоть
немножко!
– Артур,
ты должен, должен раскаяться! – вскричала я вне себя от отчаяния, обнимая
его и пряча лицо у него на груди. – Нет, ты скажешь, что жалеешь о том,
что сделал!
– Ну,
хорошо, ну, я жалею.
– Нет,
ничуть ты не жалеешь! И опять будешь делать то же.
– Где
уж мне! Ты прежде убьешь меня своим варварским обращением! – возразил он,
отталкивая меня. – Ты же меня совсем задушила… – Он прижал руку к
сердцу, и вид у него правда был больной, и измученный.
– А
теперь дай мне рюмку вина, – сказал он, – исправь то, что натворила,
тигрица! Я вот-вот потеряю сознание.
Я
бросилась за требуемым лекарством. Оно, казалось, заметно его подбодрило.
– Как
стыдно такому сильному, молодому мужчине, как ты, – сказала я, забирая у
него пустую рюмку, – доводить себя до подобного состояния!
– Знай
ты все, деточка, то сказала бы: «Какое чудо, что ты еще так хорошо держишься»!
За эти четыре месяца, Хелен, я пережил больше, чем ты за всю прошлую свою жизнь
и всю будущую, доскрипи ты хоть до ста лет! Вот и расплачиваюсь.
– Если
ты не поостережешься, то должен будешь платить цену куда большую, чем думаешь, –
полностью утратить здоровье и мою любовь тоже, если она для тебя чего-то стоит.
– Как?
Ты опять принимаешься грозить мне утратой твоей любви? Если ее так легко уничтожить,
значит, она никогда не была настоящей! Если ты не остережешься, моя прелестная
тиранка, то вынудишь меня серьезно пожалеть о своем выборе и позавидовать
Хэттерсли. Его кроткая, тихая женушка – просто украшение своего пола, Хелен. Он
привез ее с собой в Лондон на весь сезон, и она ни в чем не была ему помехой.
Он мог развлекаться, как ему хотелось, словно беззаботный холостяк, и она и не
думала жаловаться, будто ею пренебрегают. Домой возвращается хоть ночью, хоть
под утро, хоть вовсе не возвращается, мыкается трезвый или славно напивается,
делает глупости или безумствует, как его душе угодно, без всякой докуки. Ни
единого упрека, ни единой жалобы, что бы он ни вытворял. Он говорит, что во
всей Англии не найти другой такой жемчужины, и клянется, что не променял бы ее
на целое королевство.
– И
превращает ее жизнь в муку.
– Да
ничего подобного! Она хочет только того, что хочет он, и всегда довольна и
счастлива, если ему весело.
– В
таком случае она глупа не меньше его! Но только это не так. Я получила от нее
несколько писем: его поведение внушает ей мучительную тревогу, и она жалуется,
что ты подстрекаешь его не знать ни в чем удержу. В одном она даже умоляла меня,
чтобы я воспользовалась своим влиянием на тебя и заставила уехать из Лондона.
По ее словам, он был совсем другим, пока туда не приехал ты, и, конечно, не
станет позволять себе ничего подобного, если вновь будет руководиться
собственным здравым смыслом.
– Дрянная
предательница! Дай мне это письмо, и он его прочтет, ручаюсь жизнью!
– Без
ее согласия – никогда. Но если бы он и прочел, то не нашел бы никаких причин сердиться
на нее. Ни в этом письме, ни в других. Она ни разу не сказала о нем ни единого
дурного слова, и пишет только о своей тревоге за него. О его поведении
упоминает в самых мягких выражениях и находит для него всяческие оправдания. А
что до ее горя, то я просто его чувствую без каких-либо ее жалоб.
– Но
меня она поносит, и, конечно, не без твоего содействия.
– Нет.
Я написала ей, что она преувеличивает мое влияние на тебя; что я была бы рада
оторвать тебя от столичных соблазнов, если бы могла, но вряд ли мне это удалось
бы; и что, по-моему, она ошибается, полагая, будто ты совращал мистера Хэттерсли
или еще кого-нибудь с праведного пути; что одно время сама я придерживалась
прямо противоположного убеждения, но теперь полагаю, вы взаимно развращаете
друг друга, и что если бы она попробовала попенять мужу, ласково, но твердо,
это, может быть, принесло бы некоторую пользу: ведь хотя он изваян грубее, чем
мой, но все-таки не из такого несокрушимого материала.
– Ах,
так вот, значит, как у вас заведено: подстрекаете друг друга к бунту, поносите
каждая чужого мужа, а своего исподтишка черните к собственному взаимному
удовольствию!
– По
твоим же словам, она осталась глуха к моим дурным советам. А что до поношений и
прочего, то обе мы так глубоко стыдимся распущенности и пороков наших половин,
что в своей переписке очень редко касаемся этой темы. Хотя мы и подруги, но
рады были бы скрыть ваши недостатки от всего мира и даже от себя самих, но,
закрывая глаза на правду, помочь вам исправиться нельзя.
– Ну,
ну! В таком случае не приставай ко мне с ними! Пользы это не принесет ни
малейшей. Наберись терпения, не дуйся на мою слабость и раздражение, а когда я
избавлюсь от этой проклятой изнурительной лихорадки, то стану таким же веселым
и ласковым, как прежде, вот увидишь. Почему ты не можешь быть нежной и доброй,
как в прошлом году? Помню, до чего я был тебе благодарен!
– Но
какую пользу принесла тебе эта благодарность? Я обманывалась мыслью, что ты устыдился
своего поведения и ничего подобного больше никогда не допустишь. Но теперь ты
отнял у меня эту надежду.
– А,
так я безнадежен? Ну, что же, совсем неплохо, если я таким образом буду
избавлен от мучений, какие причиняют мне старания милой, заботливой женушки
вернуть меня на путь истинный, а она – от тяжких и напрасных усилий, которые
только пагубно сказываются на ее милом личике и серебряном голосе. Хелен, взрыв
гнева иногда очищает воздух, а потоки слез неизъяснимо трогают сердце, но лишь
изредка. Если же превращать и то и другое в привычку, нет вернее способа
испортить собственную красоту и надоесть своим друзьям.
С тех
пор я сдерживаю слезы и гнев, как могу. Также я избавила его от моих увещеваний
и бесплодных попыток воззвать к лучшим качествам его натуры, потому что
убедилась в тщетности всего этого. Господь мог бы пробудить это отупелое
сердце, усыпленное себялюбием, и снять пелену чувственной тьмы с его глаз, но
мне это не дано. Его несправедливости и дурному обхождению с людьми, которые от
него зависят и не могут сами себя защитить, я все еще противилась, но когда,
как часто случалось, свое дурное настроение он срывал на мне одной, я терпела
со спокойной снисходительностью, кроме тех случаев, когда, не выдержав
непрерывных однообразных придирок или, наоборот, какого-нибудь нового
безрассудства, я невольно теряла власть над собой и давала повод для обвинений
в дурном характере, жестокости и сварливости. Я старательно заботилась о его
удобствах и развлечениях, но, признаюсь, без прежней горячей нежности, так как
она во мне угасла. А кроме того, теперь я должна была делить свое время и
заботы между ним и моим прихварывающим малюткой, ради которого я часто навлекала
на себя придирки и жалобы его безрассудно требовательного отца.
Однако
Артур по натуре вовсе не кислый брюзга, и эта наносная ворчливость и нервная раздражительность
были бы даже забавны, если бы не сопровождались чрезвычайно тягостными
настроениями, которые неотъемлемы от подобных симптомов телесного расстройства.
Но по мере того как к нему возвращалось здоровье, он обретал прежнюю веселость.
Ускорилось это благодаря моим неусыпным заботам – было одно, с чем я все-таки
продолжала бороться ради его спасения, не позволяя себе в отчаянии опустить
руки. Как я, увы, предвидела, его потребность в бодрящем действии вина заметно
возросла. Вино перестало быть для него просто приятной принадлежностью обедов,
особенно званых, а превратилось в важный источник удовольствия само по себе. И
в эти недели слабости и уныния он готов был сделать из вина лекарство и опору,
утешение и развлечение, лучшего своего друга и, мало-помалу все все больше
опускаясь, должен был бы навеки увязнуть в трясине, которую по легкомыслию не
желал замечать. Но я твердо положила не допустить этого, пока у меня
сохраняется хотя бы капля влияния на него. И хотя мне не удавалось вернуть его
к умеренности, однако настойчивостью, лаской, упорством, бдительностью,
улещивая, взывая к его гордости и лучшим намерениям, я все же помешала ему
стать рабом этой омерзительной привычки, столь незаметно подчиняющей человека,
столь неумолимой в своей власти, столь губительной в своих последствиях.
И здесь
следует упомянуть, что своим успехом я немало обязана его другу, мистеру Харгрейву.
Он постоянно наезжал в Грасдейл и часто оставался обедать, Артур же, боюсь,
охотно забыл бы свои обещания, а с ними и чувство собственного достоинства,
ради возможности «весело провести вечерок» столько раз, сколько его другу было
бы угодно разделить с ним это похвальное времяпрепровождение. И уступи тот его
желанию, он за один-два вечера свел бы на нет усилия многих недель и смел бы,
как пушинку, непрочный барьер, воздвигнуть который мне стоило стольких забот и
труда. Вначале я так этого страшилась, что унизилась даже до того, чтобы в разговоре
наедине намекнуть мистеру Харгрейву о моих опасениях и выразить надежду, что
склонность Артура к подобным излишествам не найдет в нем поддержки. Он
обрадовался этому доверию и, бесспорно, не предал его. В тот раз и во все
последующие его присутствие не только не толкало хозяина дома дать волю своему
пристрастию, но, напротив, содействовало обузданию злосчастной слабости – ему
неизменно удавалось увести Артура из столовой в гостиную довольно скоро и во
вполне пристойном состоянии. Если он пропускал мимо ушей намеки вроде: «Ну, я
не хочу долее разлучать тебя с твоей супругой» или «Не следует все-таки
забывать, что миссис Хантингдон скучает там одна», то его гость просто вставал
из-за стола и направлялся к двери, вынуждая хозяина волей-неволей следовать его
примеру.
И я уже
встречала мистера Харгрейва как истинного друга нашей семьи, чье общество Артуру
неопасно, а лишь поддерживает в нем бодрость духа и развеивает томительную
скуку полного безделья и вносит приятное разнообразие в нашу уединенную жизнь.
Я видела в нем полезного союзника и не могла не испытывать к нему
благодарности, которую и выразила при первом же удобном случае. Но тут же
сердце шепнуло мне, что все не так уж хорошо, и мысль эта вызвала краску на
моем лице, которая стала еще гуще под его пристальным взглядом. А то, как он
принял мои слова, только удвоило эти дурные предчувствия. Он в восторге оттого,
что мог оказать мне услугу, но его радость умеряется сочувствием ко мне и жалостью
к себе… Не знаю из-за чего, так как я не осведомилась о причине и не допустила,
чтобы он излил мне свои печали, а поспешила уйти. Его вздохи и другие намеки на
скрытое горе, казалось, исходили из самой глубины его сердца, но либо ему
придется удерживать их при себе, либо изливать в другие уши, только не в мои –
наши отношения и так уже излишне доверительны. Я вдруг подумала, насколько
дурно, что между другом моего мужа и мной существует какой-то сговор, ему
неизвестный и прямо с ним связанный. Но потом я подумала: «Если это и дурно, то
ведь виноват Артур, а вовсе не я».
И,
право, не знаю, не за него ли я тогда покраснела! Ведь мы с ним – одно, и я
настолько это ощущаю, что его падение, его слабости, его проступки становятся
как бы моими. Я краснею за него, я боюсь за него, я раскаиваюсь за него, плачу,
молюсь и страдаю за него, как за себя. Но действовать за него я не могу, а
потому не могу не быть униженной, запачканной этим единством как в собственных
моих глазах, так и на самом деле. Я полна такой решимости любить его, с таким
волнением ищу извинения его ошибкам, что все время о них думала и пыталась
оправдывать наиболее безнравственные его взгляды и худшие его поступки, пока не
свыклась с пороком и чуть ли не стала соучастницей его грехов. Вещи, которые
прежде возмущали меня и преисполняли отвращения, теперь кажутся всего лишь
естественными. Я знаю, насколько они дурны, ибо рассудок и Божьи заповеди
подтверждают это, но постепенно утрачиваю тот безотчетный ужас и омерзение
перед ними, которые вложила в меня природа или же воспитала тетя своими
наставлениями и примером. А может быть, прежде я была слишком сурова в своих
суждениях, так как питала отвращение не только к грехам, но и к грешникам,
теперь же, льщу себя мыслью, я стала более милосердной и терпимой… Но разве я к
тому же не становлюсь более равнодушной, более бесчувственной? Какой дурочкой
была я, мечтая, что моих сил и моей чистоты будет достаточно, чтобы спасти и
себя и его! Столь тщеславные претензии заслуживают того, чтобы я погибла вместе
с ним в пропасти, от которой тщилась его уберечь Да спасет меня от нее Господь!
И его тоже! Бедный Артур, я ведь все еще надеюсь, все еще молюсь о тебе. Хотя я
пишу так, словно ты – нераскаянный негодяй, для которого уже нет ни спасения,
ни прощения, причина только в моей мучительной тревоге, в страстном желании,
чтобы это было не так! Люби я тебя меньше, то не была бы столь ожесточенной,
столь взыскательной.
Его
поведение в последнее время свет назвал бы безукоризненным, но я-то знаю, что
сердце его не переменилось. А весна близка, и я дрожу при мысли о том, что она
сулит.
Едва его
измученный организм начал обретать прежние силы и настрой, как ему стали тягостны
уединенность и покойное однообразие нашей жизни, а потому я предложила съездить
к морю, чтобы он развлекся и еще более окреп, – и ради здоровья нашего
малютки. Но нет! Воды и курорты невыносимо скучны, а к тому же один друг
пригласил его на месяц-другой в Шотландию, где можно отлично развлекаться
охотой на рябчиков и оленей, и он обещал, что обязательно приедет.
– Так,
значит, ты снова меня покинешь, Артур?
– Да,
радость моя. Но только лишь, чтобы любить тебя еще сильнее, когда вернусь и
искуплю все прошлые свои обиды и недостатки! И можешь за меня не опасаться – в
горах нет никаких соблазнов. А ты тем временем, если пожелаешь, можешь
погостить в Стейнингли: твои дядя и тетка уже давно, как тебе известно, нас
ждут, но между мной и почтенной дамой существует такое сильное взаимное
отталкивание, что я никак не могу собраться с духом.
Я охотно
воспользовалась этим разрешением, хотя несколько побаивалась расспросов тети и
ее взгляда на мою семейную жизнь, о которой я писала довольно сдержанно, так
как ничего особенно радостного сообщить не могла.
На
третьей неделе августа Артур отбыл в Шотландию, куда с ним отправился и мистер
Харгрейв, о чем я узнала с большим облегчением. А затем я с маленьким Артуром и
Рейчел уехала в Стейнингли, мой милый прежний дом – его и обитавших в нем
дорогих моему сердцу людей я вновь увидела с радостью и грустью, настолько
слившимися воедино, что мне уже не удавалось их различить. И я не могла бы
сказать, были счастливыми или горькими слезы, улыбки, вздохи, которые вызывали
у меня эти родные милые лица, и голоса, и даже самые стены и мебель. Еще и двух
лет не прошло с тех пор, как я видела и слышала их в последний раз, но каким
долгим казался теперь этот срок. Еще бы! Ведь как неизмеримо изменилась я сама.
Чего только я не увидела, не перечувствовала и не узнала с тех пор? Впрочем,
изменились и они: дядя заметно постарел и одряхлел, да и тетя стала еще более
печальной и серьезной. Мне кажется, она не сомневается, что я горько
раскаиваюсь в своей опрометчивости, хотя она ни словом на это не намекнула и не
стала с торжеством напоминать мне о своих отвергнутых мною советах, чего, признаюсь,
я опасалась. Но она наблюдала за мной очень внимательно (куда внимательнее, чем
мне хотелось бы!) и словно не доверяла моей веселости, с излишней
проницательностью замечала каждый намек на грусть или тягостные мысли, ловила
любую мою неосторожную фразу и толковала их на свой лад, пусть молча. Время от
времени она нежданно подвергала меня очень мягкому, но настойчивому допросу и
таким образом узнала много подробностей, о которых я не собиралась говорить, и,
сопоставляя эти отрывочные сведения, сумела, боюсь, получить достаточно ясное
представление о недостатках моего мужа и моих горестях, хотя и не узнала почти
ничего о еще остающихся мне источниках надежды и утешения. Ведь, как
убедительно ни старалась я описывать лучшую сторону натуры Артура, нашу взаимную
привязанность и множество причин, по которым мне должно быть счастливой и
благодарной судьбе, она выслушивала эти признания с холодным спокойствием,
словно мысленно делала из них собственные выводы. Я убеждена, что выводы эти
чаще бывали заметно хуже истинного положения вещей. Но, бесспорно, описывая
свое счастье, я слегка преувеличивала. Гордость ли заставляла меня с таким
упорством делать вид, будто я во всем довольна своим жребием? Или только
благородная решимость нести свой добровольно возложенный на себя крест без
единой жалобы и не допустить, чтобы любящая меня душа даже слегка
соприкоснулась с бедами, от которых она так старалась меня уберечь? Возможно,
тут было и то и другое, но главную роль играло второе соображение.
Гостила
я у них недолго. Не только потому, что тяготилась постоянным наблюдением и недоверием,
которые ощущала, как суровый упрек, ранивший меня куда больнее, чем она догадывалась,
но еще и потому, что маленький Артур утомлял своего двоюродного деда, хотя и
нравился ему, а также доставлял много хлопот двоюродной бабушке, которая
полюбила малютку и постоянно тревожилась о его здоровье.
Милая
тетя! Неужели вы так ласково пестовали меня во младенчестве, так заботливо воспитывали
и наставляли в детстве и ранней юности для того лишь, чтобы я обманула ваши
надежды, пошла наперекор вашим желаниям, презрела ваши предостережения и
советы, а затем омрачила вашу жизнь страхом и тревогами из-за страданий,
которые вам не дано облегчить? Эта мысль надрывала мне сердце, и я вновь и
вновь пыталась убедить ее, что очень счастлива и довольна своим жребием. Но
когда я садилась в карету, после того как она обняла меня на прощание и поцеловала
малютку, ее напутственные слова были:
– Хорошенько
заботься о своем сыне, Хелен, и, быть может, у тебя еще будут счастливые дни. Я
прекрасно понимаю, какое он для тебя сейчас сокровище и утешение. Но если ты
избалуешь его, уступая нынешним своим чувствам, раскаиваться в этом, когда он
разобьет твое сердце, будет уже поздно.
Артур
вернулся в Грасдейл только через несколько недель после меня, но я особенно не
тревожилась. Охота и другие мужественные развлечения в диких горах Шотландии
ведь далеко не то же, что столичные пороки и соблазны, а потому на душе у меня
было гораздо спокойнее. И его письма, хотя по-прежнему короткие и мало похожие
на послания пылкого влюбленного, тем не менее приходили гораздо чаще. Когда же
он вернулся, то, к огромной моей радости, не выглядел хуже, чем до отъезда, но
был даже бодрее, веселее и во всех отношениях лучше. Он все еще не избавился от
злосчастного пристрастия к застольным радостям, и мне приходится бдительно
следить за ним и всячески его удерживать, но он начал привязываться к сыну, и
теперь у него появились новые развлечения в стенах дома. А остальное его время
занимают лисья травля и конные состязания, если только землю не сковывает
мороз, так что ему не приходится довольствоваться одним моим обществом. Но
сейчас на дворе уже январь, близится весна, и, повторяю, я дрожу при мысли о
том, что она сулит. Чудное время, которое я некогда встречала как светлую пору
надежд и радости, теперь пробуждает во мне совсем иные предчувствия.
|


