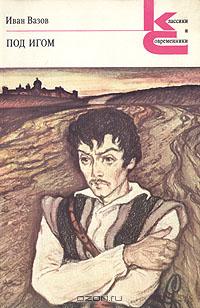
 Увеличить Увеличить |
XXXI. Посиделки в
Алтынове
Огнянов не поехал в Бяла‑Черкву, но повернул назад,кдеревне Алтыново,
расположеннойкзападу от постоялого двора, в конце долины. До нее было часа два
езды, но конь выбился из сил,адорога оказалась трудная. Таким образом, Огнянов
добрался до деревни только к вечеру, провожаемый воем волков, которые гнались
за ним до самой околицы.
Он въехал в деревню через болгарский квартал (в ней жили и
турки и болгары) и вскоре остановился у ворот дяди Цанко.
Дядя Цанко был родом из Клисуры, но с давних пор переселился
в Алтыново и обосновался здесь. Это был простодушный, веселый человек и
настоящий патриот. У него часто останавливались апостолы. Огнянова он встретил
с радостью.
– Хорошо сделал, что заехал ко мне… Нынче вечером у нас
посиделки, посмотришь на наших девок. Не пожалеешь, – улыбаясь, говорил
Цанко, провожая гостя в комнаты.
Огнянов поспешил рассказать хозяину, что его преследуют и по
какой причине.
– Слыхали, слыхали и мы, – проговорил дядо
Цанко. – Ты думаешь, если мы живем в глуши, так и не знаем, что на свете
творится?
– Но, может, у тебя будут неприятности из‑за меня?
– Не беспокойся, говорю тебе. Нынче вечером присмотри себе
девушку… в знаменосцы, – пошутил Цанко. – Вот в это окошко будешь
глядеть, словно царь какой.
Огнянов очутился в тесной и темной каморке. В крошечное
оконце он увидел большую комнату. Сюда собрались самые пригожие девушки и
молодицы, чтобы заняться пряжей и шитьем для приданого Донки, дочери хозяина.
Огонь весело пылал в очаге, освещая стены, украшенные лубочной иконой св. Ивана
Рильского[78]
и полками, на которых стояли пестрораскрашенныеглиняные поливные блюда. Мебель,
как и в каждом зажиточном деревенском доме, составляли умывальник, стол, лавки
и огромный шкаф, в котором хранилась домашняя утварь Цанко. На полу, устланном
козьими шкурами, сидели парни и гостьи, готовившие приданое. В тот вечер хозяева
позволили себе роскошь – не довольствуясь пламенем очага, зажгли две
керосиновые лампы.
Огнянов уже давно не наблюдал подобных любопытных сборищ,
созывавшихся по старинному обычаю. Притаившись в темном чуланчике, он с
интересом следил за наивны ми сценами чуть ли не первобытной сельской жизни.
Дверь открылась, и вошла Цанковица – жена Цанко, тоже уроженка Клисуры,
сплетница и болтушка. Присев подле Огнянова, она указывала ему на красивейших
девушек, называя их по именам, и о каждой находила что сказать.
– Погляди вон на ту краснощекую толстуху. Это Стайка Чонина…
Заметь, как смотрит на нее Иван Боримечка… Уж так жалобно, так жалобно! А когда
хочет ее рассмешить, лает, что овчарка. Работящая девка, подбористая и чистюля.
Только уж больно быстро раздобрела бедняжка, ну да ничего, выйдет замуж,
похудеет. А ваши девушки, городские, те, наоборот, после замужества толстеют…
Та, что слева от нее, это Цвета Проданова: у нее любовь вон с тем, у которого
усы торчат, как опаленные… Уж такая вертушка! То и дело стреляет глазами на все
четыре стороны. А так ничего, хорошая девушка. Рядом с ней Цвета Драганова, а
рядом с Цветой – Райка‑поповиа… Этих я и на двадцать пловдивских красоток не
променяю. Смотри, какие у них белоснежные шеи, ну прямо лебединые. Как‑то раз
мой Цанко сказал, что если одна из этих девок позволит ему поцеловать ее в шею,
так он ей подарит свой виноградник на Малтепе… За это я его, нечестивца,
хватила кочергой… А видишь ту, что справа от толстой Стайки? Это дочь Кара‑Велюва
– самая богатая невеста. К ней пятеро лучших женихов сватались, да отец ее не
отдает… Держит при себе, суслик… Он ведь на суслика похож… Отсохни у меня язык,
если Иван Недялков ее не увезет… А вон там и Рада Милкина; она песенница: поет,
ни дать ни взять соловушка на нашей сливе, только жаль, неряха. Ну ее к богу;
мне больше по душе Димка Тодорова, та, что сидит у скамьи; смотри, какая она
хорошенькая да нарядная. Будь я парнем, непременно бы к ней посваталась.
Хочешь, тебя посватаю? Уж больно у нее глаза хороши, чтоб ей пусто было… А
рядом с нашей Донкой сидит Пеева дочка. Она тоже красивая и работящая, ничего
не скажешь, не хуже нашей Донки. И голосиста, как Рада Милкина, а смеется – ну
что твой колокольчик, заслушаешься.
Так, стоя в темноте рядом с Бойчо, Цанковица напоминала Беатриче
из «Божественной комедии», когда она показывает Данте всех обитателей ада
поочередно и рассказывает их историю.
Огнянов слушал в пол‑уха бесконечные объяснения Цанковицы;
он был целиком поглощен самим зрелищем и не очень нуждался в его толковании. Девушки
посмелее лукаво подшучивали над парнями, заливаясь веселым смехом. На мужской
половине тоже раздавался громкий смех, и отсюда летели стрелы, пущенные в
представительниц болтливого пола. С обеих сторон градом сыпались шутки,
насмешки, остроты, а порой вольное словцо вызывало непринужденный хохот парней
и румянец на щеках девушек, даже самых загорелых. Цанко тоже принимал участие в
общем веселье, Цанковица же хлопотала по хозяйству, готовя угощение. Донка то
вставала с места, то снова садилась.
– Будет вам хохотать, лучше спойте! – весело крикнула
хозяйка, покинувшая Бойчо, чтобы пойти посмотреть стоявшую на огне кастрюлю, в
которой варилось кушанье для гостей. – Рада, Станка, затяните‑ка песню,
чтобы парням стыдно стало. Эти женихи гроша ломаного не стоят, коли они петь не
хотят.
Не дожидаясь повторения просьбы, Рада и Станка запели песню,
и ее подхватили девушки, разделившись на две группы. Одна, состоявшая из лучших
песенниц с высокими голосами, пропев стих, умолкала, другая вторила первой:
Добро‑ле, парень с девушкой, добро‑ле,
да слюбилися,
Добро‑ле, подружилися, добро‑ле, с
малолетства.
Добро‑ле, повстречалися, добро‑ле,
как‑то вечером,
Добро‑ле, да на улице, добро‑ле,
темной улице,
Добро‑ле, да сидели, добро‑ле,
говорили.
Добро‑ле, ясный месяц, добро‑ле, рог
свой выставил,
Добро‑ле, звезды небо, добро‑ле,
сплошь осыпали,
Добро‑ле, парень с девушкой, добро‑ле,
не расходятся.
Добро‑ле, сидят рядышком, добро‑ле,
все беседуют.
Добро‑ле, вода в ведрах, добро‑ле,
льдом покрылася,
Добро‑ле, коромысло, добро‑ле, встало
явором,
Добро‑ле, парень с девушкой, добро‑ле,
все милуются.
Девушки кончили петь, и посыпались похвалы парней, которым
эта любовная песня понравилась, потому что каждый считал, что она спета для
него. Иван Боримечка не спускал глаз со Стайки Чониной.
– Вот пойдем по домам, проверим эту песню! –
громогласно изрек он.
Девушки расхохотались, насмешливо поглядывая на Боримечку.
Он был как утес: рост гигантский, сила богатырская, лицо
скуластое, рябое и простодушное. Петь он любил до страсти, а голос у него был
под стать его телосложению. Боримечка рассердился. Молча отойдя в сторону, он
внезапно залаял, как старая овчарка, прямо над головой у девушек. Девушки
взвизгнули от испуга, потом рассмеялись. Те, что были посмелее, принялись его
дразнить. Одна девушка запела:
Иване, голубь ты сизый,
Иване, тонкий ты тополь…
Все расхохотались.
Другая подхватила:
Иване, медведь худущий,
Иване, как шест длиннущий…
Снова послышались хихиканье и смех. Иван вспыхнул. Тупо и
удивленно глядя на толстощекую Стайку Чонину, которая так нелюбезно высмеяла
своего вздыхателя, он раскрыл рот, напоминавший пасть удава, и заревел:
Пейкина тетка молвила:
«Пейка, Пейка, голубушка,
Слышно, болтают люди все,
Люди, соседи ближние,
Что ты румяная, пышная,
Да толстая, да тяжелая
От батрака от дядина».
«Тетя, милая тетечка,
Пусть болтают, что вздумают
Люди, соседи ближние.
Я пышная и румяная,
Я полная и тяжелая
От батина хлеба‑соли,
От сытной его пшеницы.
Пока я тесто мешаю, –
Винограда корзинку съедаю
Да ведро вина выпиваю…»
Это была злая насмешка, и Стайка смутилась. Щеки ее
покраснели так, что казалось, будто их густо нарумянили. Злорадное хихиканье
подружек больно задело ее. Некоторые насмешницы с притворным простодушием
спрашивали певца:
– Как же это можно, – и виноград есть, и вино пить?
Врет эта песня.
– Да уж что‑нибудь одно, – песня врет или девушка
врет, – ответил кто‑то.
Ядовитый намек привел в бешенство Стайку. Она бросила
мстительный взгляд на победоносно озиравшегося Боримечкуизапела дрожащим от
гнева голосом:
«Пейка, цветок во садочке,
Твои смешки да словечки,
Мои хожденья да просьбы, –
Не зря же все это было:
Давай поженимся, Пейка!»
«Йовко, ты черный работник,
Да кабы Пейка любила
Таких, как ты, свинопасов,
Свинопасов, худых подпасков,
Боярских грязных холопов, –
Горожу б из них городила,
Тебя б, дурака, положила
У самых дверей вместо камня.
На двор бы я выходила,
Телят бы я загоняла.
В грязи башмачки бы марала
Да об тебя вытирала!»
За смертельную обиду – страшное отмщение!
Стайка гордо оглянулась кругом. Слова песни ножом вонзились
в сердце Ивана Боримечки. Выпучив глаза, он стоял как вкопанный, и казалось,
будто его обухом но голове ударили. Раздался взрыв громкого, неудержимого
хохота. Все с любопытством уставились на бедного Ивана. А он не знал, куда
деваться от стыда и невыносимо оскорбленного самолюбия; на глазах его выступили
слезы. Хохот поднялся пуще прежнего. Цанковица принялась журить молодежь:
– Это еще что за насмешки? Да разве можно парню и девушке
так цапаться, вместо того чтобы ласкаться и ворковать, как голубки?
– Хороши голубки, нечего сказать! – пробормотала одна
насмешница. – Один другого стоит, полюбуйтесь на них.
И веселые девушки снова расхохотались.
– Милые бранятся, только тешатся, – заметил Цанко
примирительно.
Но Иван Боримечка, еще больше рассердившись, вышел из
комнаты.
– Кто кого любит, на того и походит, – сказала Неда
Ляговичина.
– А ты знаешь, Неда, – над кем люди смеются, тому бог
помогает, – отозвался Коно Горан, двоюродный брат Боримечки.
– Ну‑ка, молодцы, затяните‑ка вы какую‑нибудь старую
гайдуцкую, чтоб сердца у вас поуспокоились, – предложил Цанко.
Парни дружно запели:
Бедный Стоян, бедняга!
На двух дорогах следили,
На третьей его схватили,
Веревки свои размотали,
Молодцу руки связали.
Привели беднягу Стояна
На подворье попа Эрина.
Есть у попа две дочки,
А третья – сношенька Ружа,
Ружа масло сбивала
У самой садовой калитки,
А дочки двор подметали,
Стояну они сказали:
«Братец ты, братец Стояне,
Наутро тебя повесят
На царском дворе на широком,
И казнь увидит царица,
Царица и царские дети».
И Руже Стоян промолвил:
«Ружа, сноха попова,
Не жалко мне своей жизни,
И белый свет уж не мил мне.
Юнак не жалеет, не плачет.
Только прошу тебя, Ружа,
Выстирай мне рубашку
Да расчеши мои кудри, –
Хочу одного лишь, Ружа:
Когда молодца повесят,
Чтоб рубашка его белела
Да чуб развевался по ветру».
Огнянов трепетно слушал конец этой песни.
«Этот Стоян, – думал он, – настоящий гайдук,
легендарный болгарский гайдук. Смерть он встречает суровым спокойствием. Ни
слова сожаления, раскаяния, надежды. Единственное желание – умереть достойно!..
Если бы теперешние болгары были такими героями!.. О, тогда бы я не беспокоился
за исход борьбы… О такой борьбе я мечтаю, такие силы ищу… Уметь умирать – это
залог победы…»
И тут зазвучали кавалы[79].
Мелодия, вначале нежная и грустная, постепенно крепла и ширилась; глаза
музыкантов заблестели, лица их загорелись воодушевлением. Ясные звуки звенели,
наполняя ночь первобытной, дикой песней гор. Они уносили душу к балканским
вершинам и пропастям, они пели о тишине лесистых ущелий, о шелесте – листвы,
под которой в полдень отдыхают овцы, о лесных травах, о горном эхе и вздохах
любви в логу. Кавал – это арфа болгарских гор и равнин!
Как зачарованные, внимали все этой родной, близкой
поэтической музыке. Цанковица, стоя у очага, слушала, не шелохнувшись, уперев
руки в бока. Но больше всех восторгался Огнянов, – он чуть было не
захлопал в ладоши.
Возобновились шумные разговоры, снова раздался смех.
Упомянули имя Огнянова, и он стал прислушиваться. Петр Овчаров, Райчин,
Спиридончо, Иван Остен и другие завели разговор о предстоящем восстании.
– Я уже совсем приготовился к свадьбе, жду только револьвера
из Пловдива. Послал за него сто семьдесят грошей, – три барана
продал, – говорил пастух Петр Овчаров, председатель местного комитета.
– Но мы не знаем толком, когда поднимут знамя. Одни говорят,
что мы обагрим свои клинки на благовещенье, другие – на юрьев день, а дядя
Божил откладывает дело до лета… – говорил Спиридончо, стройный, красивый
парень.
– Подожди, пока закукует кукушка и зашумит дубрава… Впрочем,
я готов хоть сейчас, – пусть только скажут.
– Да, наша Стара‑планина многих юнаков укрывала и нас
укроет, – проговорил Иван Остен.
– Петр, так, значит, учитель двоих ухлопал? Молодчина!
– Когда же он приедет к нам в гости? Поцеловать бы ту руку,
что так ласкать умеет, – сказал Райчин.
– Он нас опередил, учитель‑то, но мы постараемся его
догнать. Мы в этих делах тоже смыслим, – отозвался Иван Остен. Иван Остен
был богатырь и меткий стрелок. Убийство Дели‑Ахмеда, совершенное в прошлом году,
приписывали ему. Местные турки следили за ним, но пока безуспешно.
За ужином пили за здоровье Огнянова.
– Дай бог, чтоб мы скорее увидели его живым и здоровым…
Берите пример с него, сынки, – проговорил Цанко, осушив миску вина.
– Спорю с любым, кто пожелает, – вмешалась нетерпеливая
Цанковица, – что завтра раным‑ранешенько он, как сокол, прилетит сюда.
– Да что ты говоришь, Цанковица? А я завтра еду в К.! –
огорченно проговорил Райчин. – Если он приедет, вы его задержите до сочельника…
Повеселимся на святках, кровяной колбасой его угостим.
– Что это за шум на улице? – сказал Цанко и, не допив
вина, встал.
И в самом деле со двора доносились мужские и женские голоса.
Цанко и его жена выскочили за дверь, гости тоже встали. Но Цанковица сразу же
вернулась, очень взволнованная, и объявила:
– Вот и обтяпали дельце, дай им бог здоровья!
– Что такое? Что случилось?
– Боримечка увел Стайку. Все так и ахнули.
– Схватил ее в охапку, негодник, да и потащил к себе домой
на плече, как ягненка.
Поднялся веселый шум.
– Да как же это получилось?
– Потому‑то он и ушел раньше, а за ним – Горан, братец его.
– Подкараулил Стайку за поленницей у ворот, – объясняла
Цанковица, – да и схватил! Вот жалей парня, а он девушку не пожалеет. Ну и
Боримечка! Кто бы мог подумать!
– Уж если говорить правду, они – два сапога пара! –
сказал кто‑то из гостей.
– Она как откормленный сербский поросенок, а он – как
мадьярский битюг, – шутил другой.
– Ну, совет им да любовь, а завтра выпьем у них красной
водки, – сказал Цанко.
– И меня должны угостить; кому‑кому, а мне
полагается, – кричала Цанковица, – ведь я их, можно сказать,
сосватала!
Немного погодя гости разошлись по домам веселые.
|


