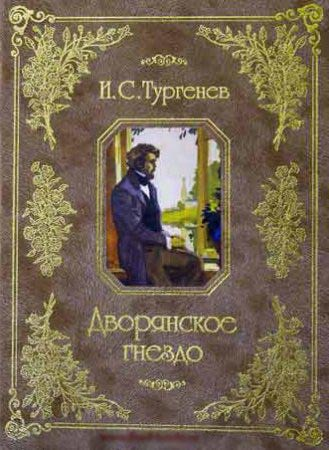
 Увеличить Увеличить |
XII
Схоронив
отца и поручив той же неизменной Глафире Петровне заведывание хозяйством и
надзор за приказчиками, молодой Лаврецкий отправился в Москву, куда влекло его
темное, но сильное чувство. Он сознавал недостатки своего воспитания и
вознамерился по возможности воротить упущенное. В последние пять лет он много
прочел и кое-что увидел; много мыслей перебродило в его голове; любой профессор
позавидовал бы некоторым его познаниям, но в то же время он не знал многого,
что каждому гимназисту давным-давно известно. Лаврецкий сознавал, что он не
свободен; он втайне чувствовал себя чудаком. Недобрую шутку сыграл англоман с
своим сыном; капризное воспитание принесло свои плоды. Долгие годы он
безотчетно смирялся перед отцом своим; когда же, наконец, он разгадал его, дело
уже было сделано, привычки вкоренились. Он не умел сходиться с людьми; двадцати
трех лет от роду, с неукротимой жаждой любви в пристыженном сердце, он еще ни
одной женщине не смел взглянуть в глаза. При его уме, ясном и здравом, но
несколько тяжелом, при его наклонности к упрямству, созерцанию и лени ему бы
следовало с ранних лет попасть в жизненный водоворот, а его продержали в
искусственном уединении… И вот заколдованный круг расторгся, а он продолжал
стоять на одном месте, замкнутый и сжатый в самом себе. Смешно было в его года
надеть студентский мундир; но он не боялся насмешек: его спартанское воспитание
хоть на то пригодилось, что развило в нем пренебрежение к чужим толкам, –
и он надел, не смущаясь, студентский мундир. Он поступил в физико-математическое
отделение. Здоровый, краснощекий, уже с заросшей бородой, молчаливый, он
производил странное впечатление на своих товарищей; они и не подозревали того,
что в этом суровом муже, аккуратно приезжавшем на лекции в широких деревенских
санях парой, таился чуть не ребенок. Он им казался каким-то мудреным педантом,
они в нем не нуждались и не искали в нем, он избегал их. В течение первых двух
лет, проведенных им в университете, он сблизился только с одним студентом, у
которого брал уроки в латинском языке. Студент этот, по имени МихалевиЧ,
энтузиаст и стихотворец, искренно полюбил Лаврецкого и совершенно случайно стал
виновником важной перемены в его судьбе.
Однажды,
в театре (Мочалов находился тогда на высоте своей славы, и Лаврецкий не пропускал
ни одного представления), увидел он в ложе бельэтажа девушку, – и хотя ни
одна женщина не проходила мимо его угрюмой фигуры, не заставив дрогнуть его
сердце, никогда еще оно так сильно не забилось. Облокотясь на бархат ложи,
девушка не шевелилась; чуткая, молодая жизнь играла в каждой черте ее смуглого,
круглого, миловидного лица; изящный ум сказывался в прекрасных глазах,
внимательно и мягко глядевших из-под тонких бровей, в быстрой усмешке выразительных
губ, в самом положении ее головы, рук, шеи; одета она была прелестно. Рядом с
нею сидела сморщенная и желтая женщина лет сорока пяти, декольте, в черном
токе, с беззубою улыбкой на напряженно озабоченном и пустом лице, а в
углублении ложи виднелся пожилой мужчина, в широком сюртуке и высоком галстуке,
с выражением тупой величавости и какой-то заискивающей подозрительности в
маленьких глазках, с крашеными усами и бакенбардами, незначительным огромным
лбом и измятыми щеками, по всем признакам отставной генерал. Лаврецкий не
отводил взора от поразившей его девушки; вдруг дверь ложи отворилась, и вошел
Михалевич. Появление этого человека, почти единственного его знакомого во всей
Москве, появление его в обществе единственной девушки, поглотившей все его
внимание, показалось Лаврецкому знаменательно и странно. Продолжая посматривать
на ложу, он заметил, что все находившиеся в ней лица обращались с Михалевичем,
как с старинным приятелем. Представление на сцене переставало занимать
Лаврецкого; сам Мочалов, хотя и был в тот вечер «в ударе», не производил на
него обычного впечатления. В одном очень патетическом месте Лаврецкий невольно
взглянул на свою красавицу: она вся наклонилась вперед, щеки ее пылали; под
влиянием его упорного взора глаза ее, устремленные на сцену, медленно
обратились и остановились на нем… Всю ночь мерещились ему эти глаза.
Прорвалась, наконец, искусственно возведенная плотина; он и дрожалки горел, и
на другой же день отправился к Михалевичу. Он узнал от него, что красавицу
звали Варварой Павловной Коробьиной; что старик и старуха, сидевшие с ней в
ложе, были отец ее и мать и что сам он, Михалевич, познакомился с ними год тому
назад, во время своего пребывания в подмосковной на «кондиции» у графа Н. С величайшей
похвалой отозвался энтузиаст о Варваре Павловне. «Это, брат ты мой, –
воскликнул он со свойственною ему порывистой певучестью в голосе, – эта
девушка – изумительное, гениальное существо, артистка в настоящем смысле слова,
и притом предобрая». Заметив из расспросов Лаврецкого, какое впечатление
произвела на него Варвара Павловна, он сам предложил ему познакомить его с нею,
прибавив, что он у них как свой; что генерал человек совсем не гордый, а мать
так глупа, что только тряпки не сосет. Лаврецкий покраснел, пробормотал что-то
невнятное и убежал. Целых пять дней боролся он со своею робостью; на шестой
день молодой спартанец надел новенький мундир и отдался в распоряжение
Михалевичу, который, будучи своим человеком, ограничился тем, что причесал себе
волосы, – и оба отправились к Коробьиным.
|


