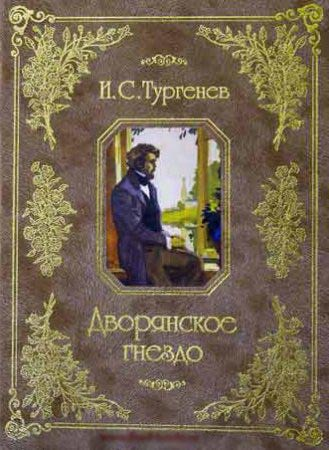
 Увеличить Увеличить |
XXXVI
На
следующий день, часу в двенадцатом, Лаврецкий отправился к Калитиным. На дороге
он встретил Паншина, который проскакал мимо его верхом, нахлобучив шляпу на
самые брови. У Калитиных Лаврецкого не приняли – в первый раз с тех пор, как он
с ними познакомился. Марья Дмитриевна «почивали», – так доложил лакей; у
«них» голова болела. Марфы Тимофеевны и Лизаветы Михайловны не было дома.
Лаврецкий походил около сада в смутной надежде встретиться с Лизой, но не
увидал никого. Он вернулся через два часа и получил тот же ответ, причем лакей
как-то косо посмотрел на него. Лаврецкому показалось неприличным наведываться в
тот же день в третий раз – и он решился съездить в Васильевское, где у него без
того были дела. На дороге он строил различные планы, один прекраснее другого;
но в сельце его тетки на него напала грусть; он вступил в разговор с Антоном; у
старика, как нарочно, все невеселые мысли на уме были. Он рассказал Лаврецкому,
как Глафира Петровна перед смертью сама себя за руку укусила, – и, помолчав,
сказал со вздохом: «Всяк человек, барин-батюшка, сам себе на съедение предан».
Было уже поздно, когда Лаврецкий пустился в обратный путь. Вчерашние звуки охватили
его, образ Лизы восстал в его душе во всей своей кроткой ясности; он умилился
при мысли, что она его любит, – и подъехал к своему городскому домику
успокоенный и счастливый.
Первое,
что поразило его при входе в переднюю, был запах пачули, весьма ему противный;
тут же стояли какие-то высокие сундуки и баулы. Лицо выскочившего к нему
навстречу камердинера показалось ему странным. Не отдавая себе отчета в своих
впечатлениях, переступил он порог гостиной… Ему навстречу с дивана поднялась
дама в черном шелковом платье с воланами и, поднеся батистовый платок к
бледному лицу, переступила несколько шагов, склонила тщательно расчесанную
душистую голову – и упала к его ногам… Тут только он узнал ее: эта дама была
его жена. Дыхание у него захватило… Он прислонился к стене.
– Теодор,
не прогоняйте меня! – сказала она по-французски, и голос ее как ножом
резанул его по сердцу.
Он
глядел на нее бессмысленно и, однако, тотчас же невольно заметил, что она и
побелела и отекла.
– Теодор! –
продолжала она, изредка вскидывая глазами и осторожно ломая свои удивительно
красивые пальцы с розовыми лощеными ногтями. – Теодор, я перед вами
виновата, глубоко виновата, – скажу более, я преступница; но вы выслушайте
меня, раскаяние меня мучит, я стала самой себе в тягость, я не могла более
переносить мое положение; сколько раз я думала обратиться к вам, но я боялась
вашего гнева; я решилась разорвать всякую связь с прошедшим… puis, j'ai ete si
malade, я была так больна, – прибавила она и провела рукой по лбу и по
щеке, – я воспользовалась распространившимся слухом о моей смерти, я
покинула все; не останавливаясь, день и ночь спешила я сюда; я долго колебалась
предстать пред вас, моего судью – paraitre devant vous, – mon juge; но я
решилась, наконец, вспомнив вашу всегдашнюю доброту, ехать к вам; я узнала ваш адрес
в Москве. Поверьте, – продолжала она, тихонько поднимаясь с полу и садясь
на самый край кресла, – я часто думала о смерти, и я бы нашла в себе
довольно мужества, чтобы лишить себя жизни – ах, жизнь теперь для меня
несносное бремя! – но мысль о моей дочери, о моей Адочке, меня
останавливала; она здесь, она спит в соседней комнате, бедный ребенок! Она
устала – вы ее увидите: она по крайней мере перед вами не виновата, а я так
несчастна, так несчастна! – воскликнула г-жа Лаврецкая и залилась слезами.
Лаврецкий
пришел, наконец, в себя; он отделился от стопы и повернулся к двери.
– Вы
уходите? – с отчаяньем проговорила его жена, – о, это жестоко! –
Не сказавши мне ни одного слова, ни одного даже упрека… Это презрение меня
убивает, это ужасно! Лаврецкий остановился.
– Что
вы хотите слышать от меня? – произнес он беззвучным голосом.
– Ничего,
ничего, – с живостью подхватила она, – я знаю, я не вправе ничего
требовать; я не безумная, поверьте; я не надеюсь, я не смею надеяться на ваше
прощение; я только осмеливаюсь просить вас, чтобы вы приказали мне, что мне
делать, где мне жить. Я, как рабыня, исполню ваше приказание, какое бы оно ни
было.
– Мне
нечего вам приказывать, – возразил тем же голосом Лаврецкий, – вы
знаете – между нами все кончено… и теперь более, чем когда-нибудь. Вы можете
жить где вам угодно; и если вам мало вашей пенсии…
– Ах,
не говорите таких ужасных слов, – перебила его Варвара Павловна, –
пощадите меня, хотя… хотя ради этого ангела… – И, сказавши эти слова, Варвара
Павловна стремительно выбежала в другую комнату и тотчас же вернулась с
маленькой, очень изящно одетой девочкой на руках. Крупные русые кудри падали ей
на хорошенькое румяное личико, на большие черные заспанные глаза; она и
улыбалась, и щурилась от огня, и упиралась пухлой ручонкой в шею матери.
– Ada,
vois, c'est ton pere [[27]], –
проговорила Варвара Павловна, отводя от ее глаз кудри и крепко целуя ее, –
prie le avec moi [[28]].
– C'est
ca papa [[29]], –
залепетала девочка, картавя.
– Oui,
mon enfant, n'est-ce pas que tu l'aimes? [[30]]
Но тут стало невмочь Лаврецкому.
– В
какой это мелодраме есть совершенно такая сцена? – пробормотал он и вышел
вон.
Варвара
Павловна постояла некоторое время на месте, слегка повела плечами, отнесла девочку
в другую комнату, раздела и уложила ее. Потом она достала книжку, села у лампы,
подождала около часу и, наконец, сама легла в постель.
– Eh
bien, madame? [[31]]
– спросила ее ее служанка француженка, вывезенная ею из Парижа, снимая с нее
корсет.
– Eh
bien, Justine [[32]], –
возразила она, – он очень постарел, но, мне кажется, он все такой же
добрый. Подайте мне перчатки на ночь, приготовьте к завтрашнему дню серое
платье доверху; да не забудьте бараньих котлет для Ады… Правда, их здесь трудно
найти; но надо постараться.
– A
la guerre comme a la guerre [[33]], –
возразила Жюстина и загасила свечку.
|


