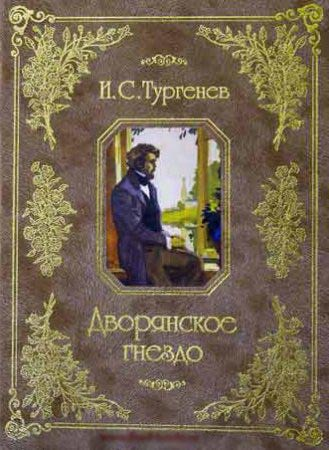
 Увеличить Увеличить |
XXXII
Настали
трудные дни для Федора Иваныча. Он находился в постоянной лихорадке. Каждое
утро отправлялся он на почту, с волненьем распечатывал письма, журналы – и
нигде не находил ничего, что бы могло подтвердить или опровергнуть роковой
слух. Иногда он сам себе становился гадок: «Что это я, – думал он, –
жду, как ворон крови, верной вести о смерти жены!» К Калитиным он ходил каждый
день; но и там ему не становилось легче: хозяйка явно дулась на него, принимала
его из снисхождения; Паншин обращался с ним преувеличенно вежливо; Лемм напустил
на себя мизантропию и едва кланялся ему, – а главное: Лиза как будто его
избегала. Когда же ей случалось остаться с ним наедине, в ней, вместо прежней
доверчивости, проявлялось замешательство; она не знала, что сказать ему, и он
сам чувствовал смущение. Лиза в несколько дней стала не та, какою он ее знал: в
ее движениях, голосе, в самом смехе замечалась тайная тревога, небывалая прежде
неровность. Марья Дмитриевна, как истая эгоистка, ничего не подозревала; но
Марфа Тимофеевна начинала присматривать за своей любимицей. Лаврецкий не раз
упрекнул себя в том, что показал Лизе полученный им нумер журнала: он не мог не
сознаться, что в его душевном состоянии было что-то возмутительное для чистого
чувства. Он полагал также, что перемена в Лизе происходила от ее борьбы с самой
собою, от ее сомнений: какой ответ дать Паншину? Однажды она принесла ему
книгу, роман Вальтер Скотта, который она сама у него спросила.
– Вы
прочли эту книгу? – проговорил он.
– Нет;
мне теперь не до книг, – отвечала она и хотела уйти.
– Постойте
на минуту; я с вами так давно не был наедине. Вы словно меня боитесь.
– Да.
– Отчего
же, помилуйте?
– Не
знаю. Лаврецкий помолчал.
– Скажите, –
начал он, – вы еще не решились?
– Что
вы хотите сказать? – промолвила она, не поднимая глаз.
– Вы
понимаете меня… Лиза вдруг вспыхнула.
– Не
спрашивайте меня ни о чем, – произнесла она с живостью, – я ничего не
знаю; я сама себя не знаю… И она тотчас же удалилась.
На
следующий день Лаврецкий приехал к Калитиным после обеда и застал у них все приготовления
ко всенощной. В углу столовой на четырехугольном столе, покрытом чистой скатертью,
уже находились прислоненные к стене небольшие образа в золотых окладах, с
маленькими тусклыми алмазами на венчиках. Старый слуга, в сером фраке и
башмаках, прошел, не спеша и не стуча каблуками, через всю комнату, поставил
две восковые свечи в тонких подсвечниках перед образами, перекрестился,
поклонился и тихо вышел. Неосвещенная гостиная была пуста. Лаврецкий походил по
столовой, спросил – не именинница ли кто? Ему отвечали шепотом, что нет, а что
всенощную заказали по желанию Лизаветы Михайловны да Марфы Тимофеевны; что
хотели было чудотворную икону поднять, но что она уехала за тридцать верст к
больному. Скоро прибыл вместе с дьячками и священник, человек уже не молодой, с
большой лысиной, и громко кашлянул в передней; дамы тотчас вереницей потянулись
из кабинета и подошли к нему под благословение; Лаврецкий молча им поклонился;
и они ему поклонились молча. Священник постоял немного, еще раз откашлянулся и
спросил вполголоса басом:
– Приступать
прикажете?
– Приступите,
батюшка, – возразила Марья Дмитриевна.
Он начал
облачаться; дьячок в стихаре подобострастно попросил уголька; запахло ладаном. Из
передней вышли горничные и лакеи и остановились сплошной кучкой перед дверями.
Роска, никогда не сходившая сверху, вдруг появилась в столовой: ее стали
выгонять – она испугалась, завертелась и села; лакей подхватил ее и унес.
Всенощная началась. Лаврецкий прижался в уголок; ощущения его были странны,
почти грустны; он сам не мог хорошенько разобрать, что он чувствовал. Марья
Дмитриевна стояла впереди всех, перед креслами; она крестилась изнеженно-небрежно,
по-барски – то оглядывалась, то вдруг поднимала взоры кверху: она скучала.
Марфа Тимофеевна казалась озабоченной; Настасья Карповна клала земные поклоны и
вставала с каким-то скромным и мягким шумом; Лиза, как стала, так и не
двигалась с места и не шевелилась; по сосредоточенному выражению ее лица можно
было догадаться, что она пристально и горячо молилась. Прикладываясь ко кресту
по окончании всенощной, она также поцеловала большую красную руку священника.
Марья Дмитриевна пригласила его откушать чаю; он снял епитрахиль, принял
несколько светский вид и вместе с дамами перешел в гостиную. Начался разговор,
не слишком оживленный. Священник выпил четыре чашки, беспрестанно отирая
платком свою лысину, рассказал, между прочим, что купец Авошников пожертвовал
семьсот рублей на позолоту церковного «кумпола», и сообщил верное средство
против веснушек. Лаврецкий подсел было к Лизе, но она держалась строго, почти
сурово, и ни разу не взглянула на него. Она как будто с намерением его не
замечала; какая-то холодная, важная восторженность нашла на нее. Лаврецкому
почему-то все хотелось улыбнуться и сказать что-нибудь забавное; но на сердце у
него было смущение, и он ушел наконец, тайно недоумевая… Он чувствовал: что-то
было в Лизе, куда он проникнуть не мог.
В другой
раз Лаврецкий, сидя в гостиной и слушая вкрадчивые, но тяжелые разглагольствования
Гедеоновского, внезапно, сам не зная почему, оборотился и уловил глубокий, внимательный,
вопросительный взгляд в глазах Лизы… Он был устремлен на него, этот загадочный
взгляд. Лаврецкий целую ночь потом о нем думал. Он любил не как мальчик, не к
лицу ему было вздыхать и томиться, да и сама Лиза не такого рода чувство
возбуждала; но любовь на всякий возраст имеет свои страданья, – и он
испытал их вполне.
|


