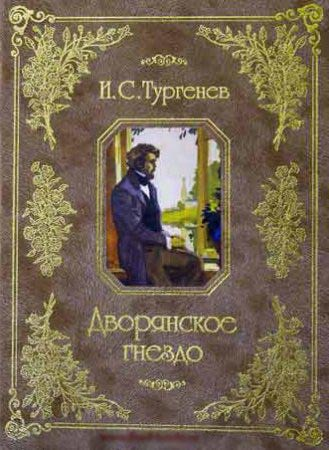
 Увеличить Увеличить |
XXVIII
На
следующее утро, за чаем, Лемм попросил Лаврецкого дать ему лошадей для того,
чтобы возвратиться в город. «Мне пора приняться за дело, то есть за
уроки, – заметил старик, – а то я здесь только даром время теряю».
Лаврецкий не сразу отвечал ему: он казался рассеянным. «Хорошо, – сказал
он наконец, – я с вами сам поеду». Без помощи слуги, кряхтя и сердясь,
уложил Лемм небольшой свой чемодан, изорвал и сжег несколько листов нотной
бумаги. Подали лошадей. Выходя из кабинета, Лаврецкий положил в карман
вчерашний нумер газеты. Во все время дороги и Лемм и Лаврецкий мало говорили
друг с другом: каждого из них занимали собственные мысли, и каждый был рад, что
другой его не беспокоит. И расстались они довольно сухо, что, впрочем, часто
случается между приятелями на Руси. Лаврецкий подвез старика к его домику, тот
вылез, достал свой чемодан и, не протягивая своему приятелю руки (он держал
чемодан обеими руками перед грудью), не глядя даже на него, сказал ему
по-русски: «Прощайте-с!» – «Прощайте», – повторил Лаврецкий и велел кучеру
ехать к себе на квартиру. Он нанимал, на всякий случай, квартиру в городе О…
Написавши несколько писем и наскоро пообедав, Лаврецкий отправился к Калитиным.
Он застал у них в гостиной одного Паншина, который объявил ему, что Марья
Дмитриевна сейчас выйдет, и тотчас с самой радушной любезностью вступил с ним в
разговор. До того дня Паншин обращался с Лаврецким не то чтоб свысока, а
снисходительно; но Лиза, рассказывая Паншину свою вчерашнюю поездку, отозвалась
о Лаврецком как о прекрасном и умном человеке; этого было довольно: следовало
завоевать «прекрасного» человека. Паншин начал с комплиментов Лаврецкому, с
описания восторга, с которым, по его словам, все семейство
Марьи
Дмитриевны отзывалось о Васильевском, и потом, по обыкновению своему, ловко
перейдя к самому себе, начал говорить о своих занятиях, о воззрениях своих на
жизнь, на свет и на службу; сказал слова два о будущности России, о том, как
следует губернаторов в руках держать; тут же весело подтрунил над самим собою и
прибавил, что, между прочим, ему в Петербурге поручили «de populariser l'idee
du cadastre» [[19]].
Он говорил довольно долго, с небрежной самоуверенностью разрешая все
затруднения и, как фокусник шарами, играя самыми важными административными и
политическими вопросами. Выражения: «Вот что бы я сделал, если б я был
правительством»; «Вы, как умный человек, тотчас со мной согласитесь», – не
сходили у него с языка. Лаврецкий холодно слушал разглагольствования Паншина:
не нравился ему этот красивый, умный и непринужденно изящный человек, с своей
светлой улыбкой, вежливым голосом и пытливыми глазами. Паншин скоро догадался,
с свойственным ему быстрым пониманием ощущений другого, что не доставляет
особенного удовольствия своему собеседнику, и под благовидным предлогом
скрылся, решив про себя, что Лаврецкий, может быть, и прекрасный человек, но несимпатичный,
«aigri» [[20]]
и, «en somme» [[21]],
несколько смешной. Марья Дмитриевна появилась в сопровождении Гедеоновского;
потом пришла Марфа Тимофеевна с Лизой, за ними пришли остальные домочадцы;
потом приехала и любительница музыки, Беленицына, маленькая, худенькая дама, с
почти ребяческим, усталым и красивым личиком, в шумящем черном платье, с
пестрым веером и толстыми золотыми браслетами; приехал и муж ее, краснощекий,
пухлый человек с большими ногами и руками, с белыми ресницами и неподвижной
улыбкой на толстых губах; в гостях жена никогда с ним не говорила, а дома, в
минуты нежности, называла его своим поросеночком; Паншин вернулся: очень стало
людно и шумно в комнатах. Лаврецкому такое множество народа было не по нутру;
особенно сердила его Беленицына, которая то и дело глядела на него в лорнет. Он
бы тотчас ушел, если б не Лиза: ему хотелось сказать ей два слова наедине, но
он долго не мог улучить удобное мгновенье и довольствовался тем, что с тайной
радостью следил за нею взором; никогда ее лицо не казалось ему благородней и
милей. Она много выигрывала от близости Беленицыной. Та беспрестанно двигалась
на стуле, поводила своими узкими плечиками, смеялась изнеженным смехом и то
щурилась, то вдруг широко раскрывала глаза. Лиза сидела смирно, глядела прямо и
вовсе не смеялась. Хозяйка села играть в карты с Марфой Тимофеевной, Беленицыным
и Гедеоновским, который играл очень медленно, беспрестанно ошибался, моргал
глазами и утирал лицо платком. Паншин принял меланхолический вид, выражался
кратко, многозначительно и печально, – ни дать ни взять невыказавшийся
художник, – но, несмотря на просьбы Беленицыной, которая очень с ним
кокетничала, не соглашался спеть свой романс: Лаврецкий его стеснял. Федор
Иваныч тоже говорил мало, особенное выражение его лица поразило Лизу, как
только он вошел в комнату: она тотчас почувствовала, что он имеет сообщить ей
что-то, но, сама не зная почему, боялась расспросить его. Наконец, переходя в
залу наливать чай, она невольно поворотила голову в его сторону. Он тотчас
пошел вслед за ней.
– Что
с вами? – промолвила она, ставя чайник на самовар.
– А
разве вы что заметили? – проговорил он.
– Вы
сегодня не такой, каким я вас видела до сих пар. Лаврецкий наклонился над
столом.
– Я
хотел, – начал он, – передать вам одно известие, но теперь
невозможно. Впрочем, прочтите вот, что отмечено карандашом в этом
фельетоне, – прибавил он, подавая ей нумер взятого с собою журнала. –
Прошу хранить это в тайне, я зайду завтра утром.
Лиза
изумилась… Паншин показался на пороге двери: она положила журнал к себе в карман.
– Читали
вы «Обермана», Лизавета Михайловна? – задумчиво спросил ее Паншин.
Лиза
отвечала ему вскользь и пошла из залы наверх. Лаврецкий вернулся в гостиную и
приблизился к игорному столу. Марфа Тимофеевна, распустив ленты чепца и
покраснев, начала ему жаловаться на своего партнера Гедеоновского, который, по
ее словам, ступить не умел.
– Видно,
в карты играть, – говорила она, – не то, что выдумки сочинять.
Тот
продолжал моргать глазами и утираться. Лиза пришла в гостиную и села в угол;
Лаврецкий посмотрел на нее, она на него посмотрела – и обоим стало почти жутко.
Он прочел недоумение и какой-то тайный упрек на ее лице. Поговорить с нею, как
бы ему хотелось, он не мог; оставаться в одной комнате с нею, гостем в числе
других гостей, – было тяжело: он решился уйти. Прощаясь с нею, он успел
повторить, что придет завтра, и прибавил, что надеется на ее дружбу.
– Приходите, –
отвечала она с тем же недоумением на лице.
Паншин
оживился по уходе Лаврецкого; он начал давать советы Гедеоновскому, насмешливо
любезничал с Беленицыной и, наконец, спел свой романс. Но с Лизой он говорил и
глядел на нее по-прежнему: значительно и немного печально.
А
Лаврецкий опять не спал всю ночь. Ему не было грустно, он не волновался, он
затих весь; но он не мог спать. Он даже не вспоминал прошедшего времени; он
просто глядел в свою жизнь; сердце его билось тяжело и ровно, часы летели, он и
не думал о сне. По временам только всплывала у него в голове мысль: «Да это
неправда, это все вздор», – и он останавливался, поникал головою и снова
принимался глядеть в свою жизнь.
|


