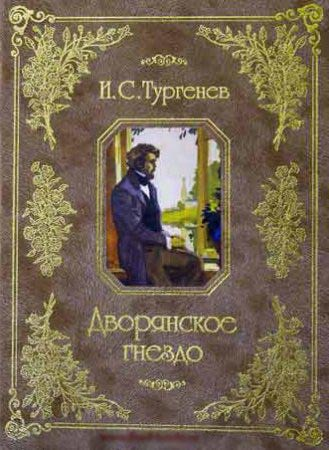
 Увеличить Увеличить |
XXVII
Между
тем вечер наступал, и Марья Дмитриевна изъявила желание возвратиться домой.
Девочек с трудом оторвали от пруда, снарядили. Лаврецкий объявил, что проводит
гостей до полдороги, и велел оседлать себе лошадь, Усаживая Марью Дмитриевну в
карету, он хватился Лемма; но старика нигде не могли найти. Он тотчас исчез,
как только кончилось уженье. Антон, с замечательной для его лет силой,
захлопнул дверцы и сурово закричал: «Пошел, кучер!» – Карета тронулась. На
задних местах помещались Марья Дмитриевна и Лиза; на передних – девочки и горничная.
Вечер стоял теплый и тихий, и окна с обеих сторон были опущены. Лаврецкий ехал
рысью возле кареты со стороны Лизы, положив руку на дверцы – он бросил поводья
на шею плавно бежавшей лошади – и изредка меняясь двумя-тремя словами с молодой
девушкой. Заря исчезла; наступила ночь, а воздух даже потеплел. Марья
Дмитриевна скоро задремала; девочки и горничная заснули тоже. Быстро и ровно
катилась карета; Лиза наклонилась вперед; только что поднявшийся месяц светил
ей в лицо, ночной пахучий ветерок дышал ей в глаза и щеки. Ей было хорошо. Рука
ее опиралась на дверцы кареты рядом с рукою Лаврецкого. И ему было хорошо: он
несся по спокойной ночной теплыни, не спуская глаз с доброго молодого лица,
слушая молодой и в шепоте звеневший голос, говоривший простые, добрые вещи; он
и не заметил, как проехал полдороги. Он не захотел будить Марью Дмитриевну,
пожал слегка руку Лизы и сказал: «Ведь мы друзья теперь, не правда ли?» Она
кивнула головой, он остановил лошадь. Карета покатилась дальше, тихонько
колыхаясь и ныряя; Лаврецкий отправился шагом домой. Обаянье летней ночи
охватило его; все вокруг казалось так неожиданно странно и в то же время так
давно и так сладко знакомо; вблизи и вдали, – а далеко было видно, хотя
глаз многого не понимал из того, что видел, – все покоилось; молодая
расцветающая жизнь сказывалась в самом этом покое. Лошадь Лаврецкого бодро шла,
мерно раскачиваясь направо и налево; большая черная тень ее шла с ней рядом;
было что-то таинственно приятное в топоте ее копыт, что-то веселое и чудное в
гремящем крике перепелов. Звезды исчезали в каком-то светлом дыме; неполный
месяц блестел твердым блеском; свет его разливался голубым потоком по небу и
падал пятном дымчатого золота на проходившие близко тонкие тучки; свежесть
воздуха вызывала легкую влажность на глаза, ласково охватывала все члены,
лилась вольною струею в грудь. Лаврецкий наслаждался и радовался своему
наслаждению. «Ну, мы еще поживем, – думал он, – не совсем еще нас
заела…» Он не договорил: кто или что… Потом он стал думать о Лизе, о том, что
вряд ли она любит Паншина; что встреться он с ней при других обстоятельствах, –
бог знает, что могло бы из этого выйти; что он понимает Лемма, хотя у ней
«своих» слов нет. Да и это неправда: у ней есть свои слова… «Не говорите об
этом легкомысленно», – вспомнилось Лаврецкому. Он долго ехал, понурив
голову, потом выпрямился, медленно произнес:
И я сжег
все, чему поклонялся, Поклонился всему, что сжигал… -
но
тотчас же ударил лошадь хлыстом и скакал вплоть до дому.
Слезая с
коня, оп в последний раз оглянулся с невольной благодарной улыбкой. Ночь, безмолвная,
ласковая ночь, лежала на холмах и на долинах; издали, из ее благовонной
глубины, бог знает откуда – с неба ли, с земли, – тянуло тихим и мягким
теплом. Лаврецкий послал последний поклон Лизе и взбежал на крыльцо.
Следующий
день прошел довольно вяло. С утра падал дождь; Лемм глядел исподлобья и все
крепче и крепче стискивал губы, точно он давал себе зарок никогда не открывать
их. Ложась спать, Лаврецкий взял с собою на постель целую груду французских
журналов, которые уже более двух недель лежали у него на столе нераспечатанные,
Он принялся равнодушно рвать куверты и пробегать столбцы газет, в которых,
впрочем, не было ничего нового. Он уже хотел бросить их – и вдруг вскочил с
постели, как ужаленный. В фельетоне одной из газет известный уже нам мусье Жюль
сообщал своим читателям «горестную новость»: прелестная, очаровательная москвитянка, –
писал он, одна из цариц моды, украшение парижских салонов, madame de Lavretzki
скончалась почти внезапно, – и весть эта, к сожалению, слишком верная,
только что дошла до него, г-на Жюля. Он был, – так продолжал он, –
можно сказать, другом покойницы…
Лаврецкий
оделся, вышел в сад и до самого утра ходил взад и вперед все по одной аллее.
|


