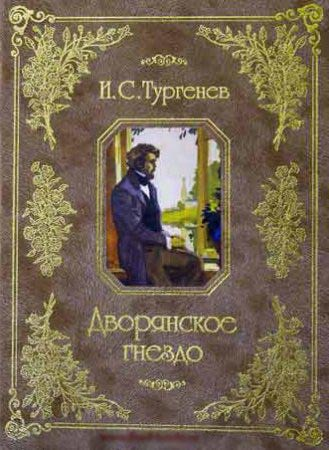
 Увеличить Увеличить |
XX
На
другой день Лаврецкий встал довольно рано, потолковал со старостой, побывал на
гумне, велел снять цепь с дворовой собаки, которая только полаяла немного, но
даже не отошла от своей конуры, – и, вернувшись домой, погрузился в
какое-то мирное оцепенение, из которого не выходил целый день. «Вот когда я
попал на самое дно реки», – сказал он самому себе не однажды. Он сидел под
окном, не шевелился и словно прислушивался к теченью тихой жизни, которая его
окружала, к редким звукам деревенской глуши. Вот где-то за крапивой кто-то
напевает тонким-тонким голоском; комар словно вторит ему. Вот он перестал, а
комар все пищит: сквозь дружное, назойливо жалобное жужжанье мух раздается
гуденье толстого шмеля, который то и дело стучится головой о потолок; петух на
улице закричал, хрипло вытягивая последнюю ноту, простучала телега, на деревне
скрыпят ворота. «Чего?» – задребезжал вдруг бабий голос. «Ох ты, мой сударик», –
говорит Антон двухлетней девочке, которую нянчит на руках. «Квас неси», –
повторяет тот же бабий голос, – и вдруг находит тишина мертвая; ничто не
стукнет, не шелохнется; ветер листком не шевельнет; ласточки несутся без крика
одна за другой по земле, и печально становится на душе от их безмолвного
налета. «Вот когда я на дне реки, – думает опять Лаврецкий. – И всегда,
во всякое время тиха и неспешна здесь жизнь, – думает он, – кто
входит в ее круг – покоряйся: здесь незачем волноваться, нечего мутить; здесь
только тому и удача, кто прокладывает свою тропинку не торопясь, как пахарь
борозду плугом. И какая сила кругом, какое здоровье в этой бездейственной тиши!
Вот тут, под окном, коренастый лопух лезет из густой травы; над ним вытягивает
зоря свой сочный стебель, богородицыны слезки еще выше выкидывают свои розовые
кудри; а там, дальше, в полях, лоснится рожь, и овес уже пошел в трубочку, и
ширится во всю ширину свою каждый лист на каждом дереве, каждая травка на своем
стебле. На женскую любовь ушли мои лучшие года, – продолжает думать
Лаврецкий, – пусть же вытрезвит меня здесь скука, пусть успокоит меня,
подготовит к тому, чтобы и я умел не спеша делать дело». И он снова принимается
прислушиваться к тишине, ничего не ожидая – и в то же время как будто
беспрестанно ожидая чего-то; тишина обнимает его со всех сторон, солнце катится
тихо по спокойному синему небу, и облака тихо плывут по нем; кажется, они
знают, куда и зачем они плывут. В то самое время в других местах на земле
кипела, торопилась, грохотала жизнь; здесь та же жизнь текла неслышно, как вода
по болотным травам; и до самого вечера Лаврецкий не мог оторваться от
созерцания этой уходящей, утекающей жизни; скорбь о прошедшем таяла в его душе,
как весенний снег, и – странное дело! – никогда не было в нем так глубоко
и сильно чувство родины.
XXI
В
течение двух недель Федор Иваныч привел домик Глафиры Петровны в порядок, расчистил
двор, сад; из Лавриков привезли ему удобную мебель, из города вино, книги,
журналы; на конюшне появились лошади; словом, Федор Иваныч обзавелся всем
нужным и начал жить – не то помещиком, не то отшельником. Дни его проходили
однообразно; но он не скучал, хотя никого не видел; он прилежно и внимательно
занимался хозяйством, ездил верхом по окрестностям, читал. Впрочем, он читал
мало: ему приятнее было слушать рассказы старика Антона. Обыкновенно Лаврецкий
садился с трубкой табаку и чашкой холодного чаю к окну; Антон становился у
двери, заложив назад руки, и начинал свои неторопливые рассказы о стародавних
временах, о тех баснословных временах, когда овес и рожь продавались не
мерками, а в больших мешках, по две и по три копейки за мешок; когда во все
стороны, даже под городом, тянулись непроходимые леса, нетронутые степи. «А
теперь, – жаловался старик, которому уже стукнуло лет за восемьдесят, –
так все вырубили да распахали, что проехать негде». Также рассказывал Антон
много о своей госпоже, Глафире Петровне: какие они были рассудительные и
бережливые; как некоторый господин, молодой сосед, подделывался было к ним,
часто стал наезжать, и как они для него изволили даже надевать свой праздничный
чепец, с лентами цвету массака и желтое платье из трю-трю-левантина; но как
потом, разгневавшись на господина соседа за неприличный вопрос: «Что, мол,
должон быть у вас, сударыня, капитал?» – приказали ему от дому отказать, и как
они тогда же приказали, чтоб все после их кончины, до самомалейшей тряпицы,
было представлено Федору Ивановичу. И точно, Лаврецкий нашел весь теткин скарб
в целости, не выключая праздничного чепца с лентами цвета массака и желтого
платья из трю-трю-левантина. Старинных бумаг и любопытных документов, на
которые рассчитывал Лаврецкий, не оказалось никаких, кроме одной ветхой книжки,
в которую дедушка его, Петр Андреич, вписывал то «Празднование в городе
Санкт-Петербурге замирения, заключенного с Турецкой империей его сиятельством
князем Александр Александровичем Прозоровским»; то рецепт грудного декохта с
примечанием: «Сие наставление дано генеральше Прасковье Федоровне Салтыковой от
протопресвитера церкви Живоначальныя троицы Феодора Авксентьевича»; то
политическую новость следующего рода: «О тиграх французах что-то
замолкло», – и тут же рядом: «В Московских ведомостях показано, что
скончался господин премиер-маиор Михаил Петрович Колычев. Не Петра ли
Васильевича Колычева сын?» Лаврецкий нашел также несколько старых календарей и
сонников и таинственное сочинение г. Амбодика; много воспоминаний возбудили в
нем давно забытые, но знакомые «Символы и эмблемы». В туалетном столике Глафиры
Петровны Лаврецкий нашел небольшой пакет, завязанный черной ленточкой,
запечатанный черным сургучом и засунутый в самую глубь ящика. В пакете лежали
лицом к лицу пастелевый портрет его отца в молодости, с мягкими кудрями,
рассыпанными по лбу, с длинными томными глазами и полураскрытым ртом, и почти
стертый портрет бледной женщины в белом платье, с белым розаном в руке, –
его матери. С самой себя Глафира Петровна никогда не позволяла снять портрета.
«Я, батюшка Федор Иваныч, – говаривал Лаврецкому Антон, – хоша и в
господских хоромах тогда жительства не имел, а вашего прадедушку, Андрея
Афанасьевича, помню, как же: мне, когда они скончались, восьмнадцатый годочек
пошел. Раз я им в саду встрелся, – так даже поджилки затряслись; однако
они ничего, только спросили, как зовут, и в свои покои за носовым платком
послали. Барин был, что и говорить – и старшого над собой не знал. Потому была,
доложу вам, у вашего прадедушки чудная така ладанка; с Афонской горы им монах
ту ладанку подарил. И сказал он ему этта монах-то: „За твое, боярин, радушие
сие тебе дарю; носи – и суда не бойся“. Ну, да ведь тогда, батюшка, известно,
какие были времена: что барин восхотел, то и творил. Бывало, кто даже из господ
вздумает им перечить, так они только посмотрят на него да скажут: „Мелко
плаваешь“, – самое это у них было любимое слово. И жил он, ваш блаженныя
памяти прадедушка, в хоромах деревянных малых; а что добра после себя оставил,
серебра что, всяких запасов, все подвалы битком набиты были. Хозяин был. Тот-то
графинчик, что вы похвалить изволили, их был: из него водку кушали. А вот
дедушка ваш, Петр Андреич, и палаты себе поставил каменные, а добра не нажил;
все у них пошло хинею; и жили они хуже папенькиного, и удовольствий никаких
себе не производили, – а денежки все порешил, и помянуть его нечем, ложки
серебряной от них не осталось, и то еще спасибо, Глафира Петровна порадела».
– А
правда ли, – перебивал его Лаврецкий, – ее старой колотовкой звали?
– Да
ведь кто звал! – возражал с неудовольствием Антон.
– А
что, батюшка, – решился спросить однажды старик, – что наша барынька,
где изволит свое пребывание иметь?
– Я
развелся с женою, – проговорил с усилием Лаврецкий, – пожалуйста, не
спрашивай о ней.
– Слушаю-с, –
печально возразил старик.
По
прошествии трех недель Лаврецкий поехал верхом в О… к Калитиным и провел у них
вечер. Лемм был у них; он очень понравился Лаврецкому. Хотя, по милости отца,
он ни на каком инструменте не играл, однако страстно любил музыку, музыку
дельную, классическую. Паншина в тот вечер у Калитиных не было. Губернатор
услал его куда-то за город. Лиза играла одна и очень отчетливо; Лемм оживился,
расходился, свернул бумажку трубочкой и дирижировал. Марья Дмитриевна сперва
смеялась, глядя на него, потом ушла спать; по ее словам, Бетговен слишком
волновал ее нервы. В полночь Лаврецкий проводил Лемма на квартиру и просидел у
него до трех часов утра. Лемм много говорил; сутулина его выпрямилась, глаза
расширились и заблистали; самые волосы приподнялись над лбом. Уже так давно
никто не принимал в нем участья, а Лаврецкий, видимо, интересовался им,
заботливо и внимательно расспрашивал его. Старика это тронуло; он кончил тем,
что показал гостю свою музыку, сыграл и даже спел мертвенным голосом некоторые
отрывки из своих сочинений, между прочим целую положенную им на музыку балладу
Шиллера «Фридолин». Лаврецкий похвалил его, заставил кое-что повторить и,
уезжая, пригласил его к себе погостить на несколько дней. Лемм, проводивший его
до улицы, тотчас согласился и крепко пожал его руку; но, оставшись один на
свежем и сыром воздухе, при только что занимавшейся заре, оглянулся,
прищурился, съежился и, как виноватый, побрел в свою комнатку. «Ich bin wohl
nicht klug» (я не в своем уме), – пробормотал он, ложась в свою жесткую и
короткую постель. Он попытался сказаться больным, когда, несколько дней спустя,
Лаврецкий заехал за ним в коляске, но Федор Иваныч вошел к нему в комнату и
уговорил его. Сильнее всего подействовало на Лемма то обстоятельство, что
Лаврецкий собственно для него велел привезти к себе в деревню фортепьяно из
города. Они вдвоем отправились к Калитиным и провели у них вечер, но уже не так
приятно, как в последний раз. Паншин был там, много рассказывал о своей
поездке, очень забавно передразнивал и представлял виденных им помещиков;
Лаврецкий смеялся, но Лемм не выходил из своего угла, молчал, тихо шевелился
весь, как паук, глядел угрюмо и тупо и оживился только тогда, когда Лаврецкий
стал прощаться. Даже сидя в коляске, старик продолжал дичиться и ежиться; но
тихий, теплый воздух, легкий ветерок, легкие тени, запах травы, березовых
почек, мирное сиянье безлунного звездного неба, дружный топот и фыркание
лошадей – все обаяния дороги, весны, ночи спустились в душу бедного немца, и он
сам первый заговорил с Лаврецким.
|


