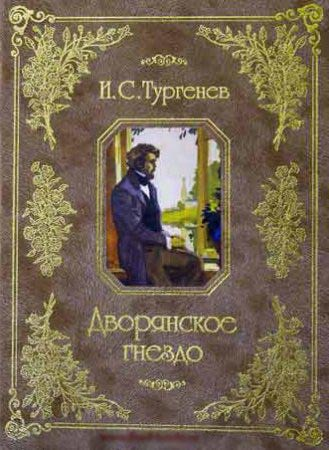
 Увеличить Увеличить |
V
Христофор
Теодор Готлиб Лемм родился в 1786 году, в королевстве Саксонском, в городе
Хемнице, от бедных музыкантов. Отец его играл на валторне, мать на арфе; сам он
уже по пятому году упражнялся на трех различных инструментах. Восьми лет он
осиротел, а с десяти начал зарабатывать себе кусок хлеба своим искусством. Он
долго вел бродячую жизнь, играл везде – ив трактирах, и на ярмарках, и на
крестьянских свадьбах, и на балах; наконец попал в оркестр и, подвигаясь все
выше и выше, достиг дирижерского места. Исполнитель он был довольно плохой, но
музыку знал основательно. На двадцать восьмом году переселился он в Россию. Его
выписал большой барин, который сам терпеть не мог музыки, но держал оркестр из
чванства. Лемм прожил у него лет семь в качестве капельмейстера и отошел от
него с пустыми руками: барин разорился, хотел дать ему на себя вексель, но
впоследствии отказал ему и в этом, – словом, не заплатил ему ни копейки.
Ему советовали уехать; но он не хотел вернуться домой – нищим из России, из великой
России, этого золотого дна артистов; он решился остаться и испытать свое
счастье. В течение двадцати лет бедный немец пытал свое счастье: побывал у
различных господ, жил и в Москве, и в губернских городах, терпел и сносил
многое, узнал нищету, бился как рыба об лед; но мысль о возвращении на родину
не покидала его среди всех бедствий, которым он подвергался; она только одна
его и поддерживала. Судьбе, однако, не было угодно порадовать его этим
последним и первым счастьем: пятидесяти лет, больной, до времени одряхлевший,
застрял он в городе О… и остался в нем навсегда, уже окончательно потеряв
всякую надежду покинуть ненавистную ему Россию и кое-как поддерживая уроками
свое скудное существование. Наружность Лемма не располагала в его пользу. Он
был небольшого роста, сутуловат, с криво выдавшимися лопатками и втянутым
животом, с большими плоскими ступнями, с бледно-синими ногтями на твердых, не
разгибавшихся пальцах жилистых красных рук; лицо имел морщинистое, впалые щеки
и сжатые губы, которыми он беспрестанно двигал и жевал, что, при его обычной
молчаливости, производило впечатление почти зловещее; седые его волосы висели
клочьями над невысоким лбом; как только что залитые угольки, глухо тлели его
крошечные, неподвижные глазки; ступал он тяжело, на каждом шагу перекидывая
свое неповоротливое тело. Иные его движения напоминали неуклюжее охорашивание
совы в клетке, когда она чувствует, что на нее глядят, а сама едва видит своими
огромными, желтыми, пугливо и дремотно моргающими глазами. Застарелое,
неумолимое горе положило на бедного музикуса свою неизгладимую печать,
искривило и обезобразило его и без того невзрачную фигуру; но для того, кто
умел не останавливаться на первых впечатлениях, что-то доброе, честное, что-то
необыкновенное виднелось в этом полуразрушенном существе. Поклонник Баха и
Генделя, знаток своего дела, одаренный живым воображением и той смелостью
мысли, которая доступна одному германскому племени, Лемм со временем – кто
знает? – стал бы в ряду великих композиторов своей родины, если б жизнь
иначе его повела; но не под счастливой звездой он родился! Он много написал на
своем веку – и ему не удалось увидеть ни одного своего произведения изданным;
не умел он приняться за дело как следовало, поклониться кстати, похлопотать
вовремя. Как-то, давным-давно тому назад, один его поклонник и друг, тоже немец
и тоже бедный, издал на свой счет две его сонаты, – да и те остались
целиком в подвалах музыкальных магазинов; глухо и бесследно провалились они,
словно их ночью кто в реку бросил. Лемм, наконец, махнул рукой на все; притом и
годы брали свое: он зачерствел, одеревенел, как пальцы его одеревенели. Один, с
старой кухаркой, взятой им из богадельни (он никогда женат не был), проживал он
в О… в небольшом домишке, недалеко от калитинского дома; много гулял, читал
библию, да собрание протестантских псалмов, да Шекспира в шлегелевском переводе.
Он давно ничего не сочинял; но, видно, Лиза, лучшая его ученица, умела его
расшевелить: он написал для нее кантату, о которой упомянул Паншин. Слова этой
кантаты были им заимствованы из собрания псалмов; некоторые стихи он сам
присочинил. Ее пели два хора – хор счастливцев и хор несчастливцев; оба они к
концу примирялись и пели вместе: «Боже милостивый, помилуй нас, грешных, и
отжени от нас всякие лукавые мысля и земные надежды». На заглавном листе,
весьма тщательно написанном и даже разрисованном, стояло: «Только праведные
правы. Духовная кантата. Сочинена и посвящена девице Елизавете Калитиной, моей
любезной ученице, ее учителем, X. Т. Г. Леммом». Слова: «Только праведные
правы» и «Елизавете Калитиной» были окружены лучами. Внизу было приписано: «Для
вас одних, fur Sie allein». – Оттого-то Лемм и покраснел и взглянул искоса
на Лизу; ему было очень больно, когда Паншин заговорил при нем об его кантате.
VI
Паншин
громко и решительно взял первые аккорды сонаты (он играл вторую руку), но Лиза
не начинала своей партии. Он остановился и посмотрел на нее. Глаза Лизы, прямо
на него устремленные, выражали неудовольствие; губы ее не улыбались, все лицо
было строго, почти печально.
– Что
с вами? – опросил он.
– Зачем
вы не сдержали своего слова? – сказала она. – Я вам показала кантату
Христофора Федорыча под тем условием, чтоб вы не говорили ему о ней.
– Виноват,
Лизавета Михайловна, – к слову пришлось.
– Вы
его огорчили – и меня тоже. Теперь он и мне доверять не будет.
– Что
прикажете делать, Лизавета Михайловна? От младых ногтей не могу видеть равнодушно
немца: так и подмывает меня его подразнить.
– Что
вы это говорите, Владимир Николаич! Этот немец – бедный, одинокий, убитый человек
– и вам его не жаль? Вам хочется дразнить его? Паншин смутился.
– Вы
правы, Лизавета Михайяовна, – промолвил он. – Всему виною – моя
вечная необдуманность. Нет, не возражайте мне; я себя хорошо знаю. Много зла
мне наделала моя необдуманность. По ее милости я прослыл за эгоиста.
Паншин
помолчал. С чего бы ни начинал он разговор, он – обыкновенно кончал тем, что
говорил о самом себе, я это выходило у него как-то мило и мягко, задушевно,
словно невольно.
– Вот
и в вашем доме, – продолжал он, – матушка ваша, конечно, ко мне
благоволит – она такая добрая; вы… впрочем, я не знаю вашего мнения обо мне;
зато ваша тетушка просто меня терпеть не может. Я ее тоже, должно быть, обидел
каким-нибудь необдуманным, глупым словом. Ведь она меня не любит, не правда ли?
– Да, –
произнесла Лиза с небольшой запинкой, – вы ей не нравитесь.
Паншин
быстро провел пальцами по клавишам; едва заметная усмешка скользнула по его
губам.
– Ну,
а вы? – промолвил он, – я вам тоже кажусь эгоистом?
– Я
вас еще мало знаю, – возразила Лиза, – но я вас не считаю за эгоиста;
я, напротив, должна быть благодарна вам…
– Знаю,
знаю, что вы хотите сказать, – перебил ее Паншин и снова пробежал пальцами
по клавишам, – за ноты, за книги, которые я вам приношу, за плохие
рисунки, которыми я украшаю ваш альбом, и так далее, и так далее. Я могу все
это делать – я все-таки быть эгоистом. Смею думать, что вы не скучаете со мною
и что вы не считаете меня за дурного человека, но все же вы полагаете, что я –
как, бишь, это сказано? – для красного словца не пожалею ни отца, ни приятеля.
– Вы
рассеянны и забывчивы, как все светские люди, – промолвила Лиза, –
вот и все. Паншин немного нахмурился.
– Послушайте, –
сказал он, – не будемте больше говорить обо мне; станемте разыгрывать нашу
сонату. Об одном только прошу я вас, – прибавил он, разглаживая рукою
листы лежавшей на пюпитре тетради, – думайте обо мне что хотите, называйте
меня даже эгоистом – так и быть! но не называйте меня светским человеком: эта
кличка мне нестерпима… Anch'io sono pittore [[6]].
Я тоже артист, хотя плохой, и это, а именно то, что я плохой артист, – я
вам докажу сейчас же на деле. Начнем же.
– Начнем,
пожалуй, – сказала Лиза.
Первое
adagio прошло довольно благополучно, хотя Паншин неоднократно ошибался. Свое и
заученное он играл очень мило, но разбирал плохо. Зато вторая часть сонаты –
довольно быстрое allegro – совсем не пошла: на двадцатом такте Паншин,
отставший такта на два, не выдержал и со смехом отодвинул свой стул.
– Нет! –
воскликнул он, – я не могу сегодня играть; хорошо, что Лемм нас не слышал;
он бы в обморок упал. Лиза встала, закрыла фортепьяно и обернулась к Паншину.
– Что
же мы будем делать? – спросила она.
– Узнаю
вас в этом вопросе! Вы никак не можете сидеть сложа руки. Что ж, если хотите,
давайте рисовать, пока еще не совсем стемнело. Авось другая муза – муза
рисования – как, бишь, ее звали? позабыл… будет ко мне благосклоннее. Где ваш
альбом? Помнится, там мой пейзаж не кончен.
Лиза
пошла в другую комнату за альбомом, а Паншин, оставшись один, достал из кармана
батистовый платок, потер себе ногти и посмотрел, как-то сносясь, на свои руки.
Они у него были очень красивы и белы; на большом пальце левой руки носил он
винтообразное золотое кольцо. Лиза вернулась; Паншин уселся к окну, развернул
альбом.
– Ага! –
воскликнул он, – я вижу, вы начали срисовывать мой пейзаж – и прекрасно.
Очень хорошо! Вот тут только – дайте-ка карандаш – не довольно сильно положены
тени. Смотрите.
И Паншин
размашисто проложил несколько длинных штрихов. Он постоянно рисовал один и тот
же пейзаж: на первом плане большие растрепанные деревья, в отдаленье поляну и
зубчатые горы на небосклоне. Лиза глядела через его плечо на его работу.
– В
рисунке, да и вообще в жизни, – говорил Паншин, сгибая голову то направо,
то налево, – легкость и смелость – первое дело.
В это
мгновение вошел в комнату Лемм и, сухо поклонившись, хотел удалиться; но Паншин
бросил альбом и карандаш в сторону и преградил ему дорогу.
– Куда
же вы, любезный Христофор Федорыч? Разве вы не остаетесь чай пить?
– Мне
домой, – проговорил Лемм угрюмым голосом, – голова болит.
– Ну,
что за пустяки, – останьтесь. Мы с вами поспорим о Шекспире.
– Голова
болит, – повторял старик.
– А
мы без вас принялись было за бетговенскую сонату, – продолжал Паншин,
любезно взяв его за талию и светло улыбаясь, – но дело совсем на лад не
пошло. Вообразите, я не мог две ноты сряду взять верно.
– Вы
бы опять спел сфой романце лутчи, – возразил Лемм, отводя руки Паншина, и
вышел вон. Лиза побежала вслед за ним. Она догнала его на крыльце.
– Христофор
Федорыч, послушайте, – сказала она ему по-немецки, провожая его до ворот
по зеленой короткой травке двора, – я виновата перед вами – простите меня.
Лемм ничего не отвечал.
– Я
показала Владимиру Николаевичу вашу кантату; я была уверена, что он ее
оценит, – и она, точно, очень ему понравилась. Лемм остановился.
– Это
ничего, – оказал он по-русски и потом прибавил на родном своем языке: – но
он не может ничего понимать; как вы этого не видите? Он дилетант – и все тут!
– Вы
к нему несправедливы, – возразила Лиза, – он все понимает, и сам
почти все может сделать.
– Да,
все второй нумер, легкий товар, спешная работа. Это нравится, и он нравится, и
сам он этим доволен – ну и браво. А я не сержусь, эта кантата и я – мы оба
старые дураки; мне немножко стыдно, но это ничего.
– Простите
меня, Христофор Федорыч, – проговорила снова Лиза.
– Ничего,
ничего, – повторил он опять по-русски, – вы добрая девушка… А вот
кто-то к вам идет. Прощайте. Вы очень добрая девушка.
И Лемм
уторопленным шагом направился к воротам, в которые входил какой-то незнакомый
ему господин, в сером пальто и широкой соломенной шляпе. Вежливо поклонившись ему
(он кланялся всем новым лицам в городе О…; от знакомых он отворачивался на
улице – такое уж он положил себе правило), Лемм прошел мимо и исчез за забором.
Незнакомец с удивлением посмотрел ему вслед и, вглядевшись в Лизу, подошел
прямо к ней.
|


