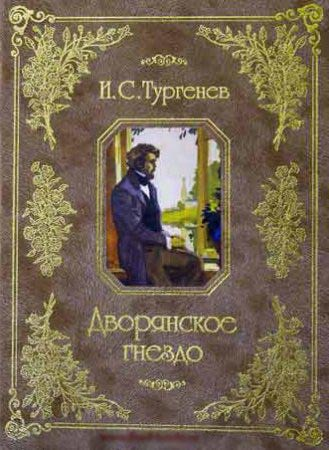
 Увеличить Увеличить |
X
Иван
Петрович вернулся в Россию англоманом. Коротко остриженные волосы, накрахмаленное
жабо, долгополый гороховый сюртук со множеством воротничков, кислое выражение
лица, что-то резкое и вместе равнодушное в обращении, произношение сквозь зубы,
деревянный внезапный хохот, отсутствие улыбки, исключительно политический и
политико-экономический разговор, страсть к кровавым ростбифам и портвейну – все
в нем так и веяло Великобританией; весь он казался пропитан ее духом. Но –
чудное дело! – превратившись в англомана, Иван Петрович стал в то же время
патриотом, по крайней мере он называл себя патриотом, хотя Россию знал плохо,
не придерживался ни одной русской привычки и по-русски изъяснялся странно: в
обыкновенной беседе речь его, неповоротливая и вялая, вся пестрела галлицизмами;
но чуть разговор касался предметов важных, у Ивана Петровича тотчас являлись
выражения вроде: «оказать новые опыты самоусердия», «сие не согласуется с самою
натурою обстоятельства» и т. д. Иван Петрович привез с собою несколько
рукописных планов, касавшихся до устройства и улучшения государства; он очень
был недоволен всем, что видел, – отсутствие системы в особенности возбуждало
его желчь. При свидании с сестрою он с первых же слов объявил ей, что он
намерен ввести коренные преобразования, что впредь у него все будет идти по
новой системе. Глафира Петровна ничего не отвечала Ивану Петровичу, только зубы
стиснула и подумала: «Куда же я-то денусь?» Впрочем, приехавши в деревню вместе
с братом и племянником, она скоро успокоилась. В доме точно произошли некоторые
перемены: приживальщики и тунеядцы подверглись немедленному изгнанию; в числе
их пострадали две старухи, одна – слепая, другая – разбитая параличом, да еще
дряхлый майор очаковских времен, которого, по причине его действительно
замечательной жадности, кормили одним черным хлебом да чечевицей. Также вышел
приказ не принимать прежних гостей: всех их заменил дальний сосед, какой-то
белокурый золотушный барон, очень хорошо воспитанный и очень глупый человек.
Появились новые мебели из Москвы; завелись плевательницы, колокольчики,
умывальные столики; завтрак стал иначе подаваться; иностранные вина изгнали
водки и наливки; людям пошили новые ливреи; к фамильному гербу прибавилась
подпись: «In recto virtus…» [[10]].
В сущности же власть Глафиры нисколько не уменьшилась: все выдачи, покупки
по-прежнему от нее зависели; вывезенный из-за границы камердинер из эльзасцев
попытался было с нею потягаться – и лишился места, несмотря на то, что барин
ему покровительствовал. Что же до хозяйства, до управления имениями (Глафира
Петровна входила и в эти дела), то, несмотря на неоднократно выраженное Иваном
Петровичем намерение: вдохнуть новую жизнь в этот хаос, – все осталось
по-старому, только оброк кой-где прибавился, да барщина стала потяжелее, да
мужикам запретили обращаться прямо к Ивану Петровичу. Патриот* очень уж
презирал своих сограждан. Система Ивана Петровича в полной силе своей применена
была только к Феде; воспитание его действительно подверглось «коренному
преобразованию»: отец исключительно занялся им.
XI
До возвращения
Ивана Петровича из-за границы Федя находился, как уже сказано, на руках Глафиры
Петровны. Ему не было восьми лет, когда мать его скончалась; он видел ее не каждый
день и полюбил ее страстно: память о ней, об ее тихом и бледном лице, об ее
унылых взглядах и робких ласках навеки запечатлелась в его сердце; но он смутно
понимал ее положение в доме; он чувствовал, что между им и ею существовала
преграда, которую она не смела и не могла разрушить. Отца он дичился, да и сам
Иван Петрович никогда не ласкал его; дедушка изредка гладил его по головке и
допускал к руке, но называл его букой и считал дурачком. После смерти Маланьи
Сергеевны тетка окончательно забрала его в руки. Федя боялся ее, боялся ее
светлых и зорких глаз, ее резкого голоса; он не смел пикнуть при ней; бывало,
он только что зашевелится на своем стуле, уж она и шипит: «Куда? Сиди смирно».
По воскресеньям, после обедни, позволяли ему играть, то есть давали ему толстую
книгу, таинственную книгу, сочинение некоего Максимовича-Амбодика, под заглавием
«Символы и эмблемы». В этой книге помещалось около тысячи частью весьма
загадочных рисунков, с столь же загадочными толкованиями на пяти языках.
Купидон с голым и пухлым телом играл большую роль в этих рисунках. К одному из
них, под названием «Шафран и радуга», относилось толкование: «Действие сего
есть большее»; против другого, изображавшего «Цаплю, летящую с фиалковым
цветком во рту», стояла надпись: «Тебе все они суть известны». «Купидон и
медведь, лижущий своего медвежонка» означали: «Мало-помалу». Федя рассматривал
эти рисунки; все были ему знакомы до малейших подробностей; некоторые, всегда
одни и те же, заставляли его задумываться и будили его воображение; других
развлечений он не знал. Когда наступила пора учить его языкам и музыке, Глафира
Петровна наняла за бесценок старую девицу, шведку с заячьими глазами, которая с
грехом пополам говорила по-французски и по-немецки, кое-как играла на
фортепьяно да, сверх того, отлично солила огурцы. В обществе этой наставницы,
тетки да старой сенной девушки Васильевны провел Федя целых четыре года. Бывало,
сидит он в уголке с своими «Эмблемами» – сидит… сидит; в низкой комнате пахнет
гораниумом, тускло горит одна сальная свечка, сверчок трещит однообразно,
словно скучает, маленькие часы торопливо чикают на стене, мышь украдкой
скребется и грызет за обоями, а три старые девы, словно парки, молча и быстро
шевелят спицами, тени от рук их то бегают, то странно дрожат в полутьме, и
странные, также полутемные мысли роятся в голове ребенка. Никто бы не назвал
Федю интересным дитятей: он был довольно бледен, но толст, нескладно сложен и
неловок, – настоящий мужик, по выражению Глафиры Петровны; бледность скоро
бы исчезла с его лица, если б его почаще выпускали на воздух. Учился он порядочно,
хотя часто ленился; он никогда не плакал; зато по временам находило на него
дикое упрямство; тогда уже никто не мог с ним сладить. Федя не любил никого из
окружавших его… Горе сердцу, не любившему смолоду!
Таким-то
нашел его Иван Петрович и, не теряя времени, принялся применять к нему свою
систему. «Я из него хочу сделать человека прежде всего, un homme, – сказал
он Глафире Петровне, – и не только человека, но спартанца». Исполнение
своего намерения Иван Петрович начал с того, что одел сына по-шотландски:
двенадцатилетний малый стал ходить с обнаженными икрами и с петушьим пером на
окладном картузе; шведку заменил молодой швейцарец, изучивший гимнастику до
совершенства; музыку, как занятие недостойное мужчины, изгнали навсегда; естественные
науки, международное право, математика, столярное ремесло, по совету Жан-Жака
Руссо, и геральдика, для поддержания рыцарских чувств, – вот чем должен
был заниматься будущий «человек»; его будили в четыре часа утра, тотчас
окачивали холодною водой и заставляли бегать вокруг высокого столба на веревке;
ел он раз в день по одному блюду, ездил верхом, стрелял из арбалета; при всяком
удобном случае упражнялся, по примеру родителя, в твердости воли и каждый вечер
вносил в особую книгу отчет прошедшего дня и свои впечатления; а Иван Петрович,
с своей стороны, писал ему наставления по-французски, в которых он называл его
mon fils [[11]]
и говорил ему vous [[12]].
По-русски Федя говорил отцу: «ты», но в его присутствии не смел садиться.
«Система» сбила с толку мальчика, поселила путаницу в его голове, притиснула ее;
но зато на его здоровье новый образ жизни благодетельно подействовал: сначала
он схватил горячку, но вскоре оправился и стал молодцом. Отец гордился им и
называл его на своем странном наречии: сын натуры, произведение мое. Когда Феде
минул шестнадцатый год, Иван Петрович почел за долг заблаговременно поселить в
него презрение к женскому полу, – и молодой спартанец, с робостью на душе,
с первым пухом на губах, полный соков, сил и крови, уже старался казаться
равнодушным, холодным и грубым.
Между
тем время шло да шло. Иван Петрович большую часть года проводил в Лавриках (так
называлось главное его родовое имение), а по зимам приезжал в Москву один,
останавливался в трактире, прилежно посещал клуб, ораторствовал и развивал свои
планы в гостиных и более чем когда-либо держался англоманом, брюзгой и
государственным человеком. Но настал 1825 год и много принес с собою горя.
Близкие знакомые и приятели Ивана Петровича подверглись тяжким испытаниям. Иван
Петрович поспешил удалиться в деревню и заперся в своем доме. Прошел еще год, и
Иван Петрович вдруг захилел, ослабел, опустился; здоровье ему изменило.
Вольнодумец – начал ходить в церковь и заказывать молебны; европеец – стал
париться в бане, обедать в два часа, ложиться в девять, засыпать под болтовню
старого дворецкого; государственный человек – сжег все свои планы, всю
переписку, трепетал перед губернатором и егозил перед исправником; человек с
закаленною волей – хныкал и жаловался, когда у него вскакивал веред, когда ему
подавали тарелку холодного супу. Глафира Петровна опять завладела всем в доме;
опять начали ходить с заднего крыльца приказчики, бурмистры, простые мужики к
«старой колотовке», – так прозывали ее дворовые люди. Перемена в Иване
Петровиче сильно поразила его сына; ему уже пошел девятнадцатый год, и он
начинал размышлять и высвобождаться из-под гнета давившей его руки. Он и прежде
замечал разладицу между словами и делами отца, между его широкими либеральными
теориями и черствым, мелким деспотизмом; но он не ожидал такого крутого
перелома. Застарелый эгоист вдруг выказался весь. Молодой Лаврецкий собирался
ехать в Москву, подготовиться в университет, – неожиданное, новое бедствие
обрушилось на голову Ивана Петровича: он ослеп, и ослеп безнадежно, в один
день.
Не
доверяя искусству русских врачей, он стал хлопотать о позволении отправиться за
границу. Ему отказали. Тогда он взял с собою сына и целых три года проскитался
по России от одного доктора к другому, беспрестанно переезжая из города в город
и приводя в отчаяние врачей, сына, прислугу своим малодушием и нетерпением.
Совершенной тряпкой, плаксивым и капризным ребенком воротился он в Лаврики.
Наступили горькие денечки, натерпелись от него все. Иван Петрович утихал
только, пока обедал; никогда он так жадно и так много не ел; все остальное время
он ни себе, никому не давал покоя. Он молился, роптал на судьбу, бранил себя,
бранил политику, свою систему, бранил все, чем хвастался и кичился, все, что
ставил некогда сыну в образец; твердил, что ни во что не верит, и молился
снова; не выносил ни одного мгновенья одиночества и требовал от своих домашних,
чтоб они постоянно, днем и ночью, сидели возле его кресел и занимали его
рассказами, которые он то и дело прерывал восклицаниями: «Вы все врете – экая
чепуха!»
Особенно
доставалось Глафире Петровне; он решительно не мог обойтись без нее – и она до
конца исполняла все прихоти больного, хотя иногда не тотчас решалась отвечать
ему, чтобы звуком голоса не выдать душившей ее злобы. Так проскрипел он еще два
года и умер в первых числах мая, вынесенный на балкон, на солнце. «Глаша,
Глашка! бульонцу, бульонцу, старая дур…», – пролепетал его коснеющий язык
и, не договорив последнего слова, умолк навеки. Глафира Петровна, которая
только что выхватила чашку бульону из рук дворецкого, остановилась, посмотрела
брату в лицо, медленно, широко перекрестилась и удалилась молча; а тут же находившийся
сын тоже ничего не сказал, оперся на перила балкона и долго глядел в сад, весь
благовонный и зеленый, весь блестевший в лучах золотого весеннего солнца. Ему
было двадцать три года; как страшно, как незаметно скоро пронеслись эти
двадцать три года!.. Жизнь открывалась перед ним.
|


