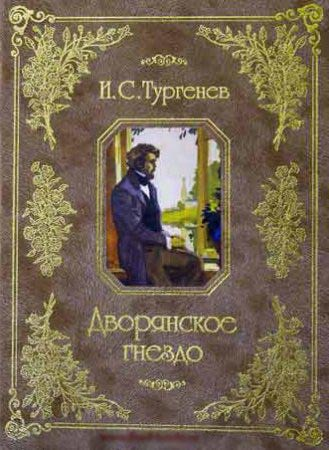
 Увеличить Увеличить |
III
– Здравствуйте,
Марья Дмитриевна! – воскликнул звучным и приятным голосом всадник. –
Как вам нравится моя новая покупка? Марья Дмитриевна подошла к окну.
– Здравствуйте,
Woldemar! Ах, какая славная лошадь! У кого вы ее купили?
– У
ремонтера… Дорого взял, разбойник.
– Как
ее зовут?
– Орландом…
Да это имя глупо; я хочу переменить… Eh bien, eh bien, mon garcon… [[1]]
Какой неугомонный! Конь фыркал, переступал ногами и махал опененною мордой.
– Леночка,
погладьте ее, не бойтесь…
Девочка
протянула из окна руку, но Орланд вдруг взвился на дыбы и бросился в сторону.
Всадник не потерялся, взял коня в шенкеля, вытянул его хлыстом по шее и,
несмотря на его сопротивление, поставил его опять перед окном.
– Prenez
garde, prenez garde [[2]], –
твердила Марья Дмитриевна.
– Леночка,
поласкайте его, – возразил всадник, – я не позволю ему вольничать.
Девочка
опять протянула руку и робко коснулась трепетавших ноздрей Орланда, который
беспрестанно вздрагивал и грыз удила.
– Браво! –
воскликнула Марья Дмитриевна, – а теперь слезьте и придите к нам.
Всадник
лихо повернул коня, дал ему шпоры и, проскакав коротким галопом по улице,
въехал на двор. Минуту спусти он вбежал, помахивая хлыстиком, из двери передней
в гостиную; в то же время на пороге другой двери показалась стройная, высокая,
черноволосая девушка лет девятнадцати – старшая дочь Марьи Дмитриевны, Лиза.
IV
Молодой
человек, с которым мы только что познакомили читателей, прозывался Владимиром
Николаичем Паншиным. Он служил в Петербурге чиновником по особым поручениям в министерстве
внутренних дел. В город О… он приехал для исполнения временного казенного поручения
и состоял в распоряжении губернатора, генерала Зонненберга, которому доводился
дальним родственником. Отец Паншина, отставной штабс-ротмистр, известный игрок,
человек с сладкими глазами, помятым лицом и нервической дерготней в губах, весь
свой век терся между знатью, посещал английские клубы обеих столиц и слыл за
ловкого, не очень надежного, но милого и задушевного малого. Несмотря на всю
свою ловкость, он находился почти постоянно на самом рубеже нищеты и оставил
своему единственному сыну состояние небольшое и расстроенное. Зато он,
по-своему, позаботился об его воспитании: Владимир Николаич говорил
по-французски прекрасно, по-английски хорошо, по-немецки дурно. Так оно и
следует: порядочным людям стыдно говорить хорошо по-немецки; но пускать в ход
германское словцо в некоторых, большею частью забавных, случаях – можно, c'est
meme tres chic [[3]],
как выражаются петербургские парижане. Владимир Николаич с пятнадцатилетнего
возраста уже умел не смущаясь войти в любую гостиную, приятно повертеться в ней
и кстати удалиться. Отец Паншина доставил сыну своему много связей; тасуя карты
между двумя робберами или после удачного «большого шлема», он не пропускал случая
запустить словечко о своем «Володьке» какому-нибудь важному лицу, охотнику до
коммерческих игр. С своей стороны, Владимир Николаич во время пребывания в
университете, откуда он вышел с чином действительного студента, познакомился с
некоторыми знатными молодыми людьми и стал вхож в лучшие дома. Его везде охотно
принимали; он был очень недурен собою, развязен, забавен, всегда здоров и на
все готов; где нужно – почтителен, где можно – дерзок, отличный товарищ, un
charmant garcon [[4]].
Заветная область раскрылась перед ним. Паншин скоро понял тайну светской науки;
он умел проникнуться действительным уважением к ее уставам, умел с
полунасмешливой важностью заниматься вздором и показать вид, что почитает все
важное за вздор; танцевал отлично, одевался по-английски. В короткое время он
прослыл одним из самых любезных и ловких молодых людей в Петербурге. Паншин был
действительно очень ловок, – не хуже отца; но он был также очень даровит.
Все ему далось: он мило пел, бойко рисовал, писал стихи, весьма недурно играл
на сцене. Ему всего пошел двадцать восьмой год, а он был уже камер-юнкером и
чин имел весьма изрядный. Паншин твердо верил в себя, в свой ум, в свою
проницательность; он шел вперед смело и (весело, полным махом; жизнь его текла
как по маслу. Он привык нравиться всем, старому и малому, я воображал, что
знает людей, особенно женщин: он хорошо знал их обыденные слабости. Как человек
не чуждый художеству, он чувствовал в себе и жар, и некоторое увлечение, и
восторженность, и вследствие этого позволял себе разные отступления от правил:
кутил, знакомился с лицами, не принадлежавшими к свету, и вообще держался
вольно и просто; но в душе он был холоден и хитр, и во время самого буйного
кутежа его умный карий глазок все караулил и высматривал; этот смелый, этот
свободный юноша никогда не мог забыться и увлечься вполне. К чести его должно
сказать, что он никогда не хвастался своими победами. В дом Марьи Дмитриевны он
попал тотчас по приезде в О… и скоро освоился в нем совершенно. Марья Дмитриевна
в нем души не чаяла.
Паншин
любезно раскланялся со всеми находившимися в комнате, пожал руку у Марьи
Дмитриевны и у Лизаветы Михайловны, слегка потрепал Гедеоновского по плечу и,
повернувшись на каблуках, поймал Леночку за голову и поцеловал ее в лоб.
– И
вы не боитесь ездить на такой злой лошади? – спросила его Марья
Дмитриевна.
– Помилуйте,
она пресмирная; а вот, я доложу вам, чего я боюсь: я боюсь играть в преферанс с
Сергеем Петровичем; вчера у Беленицыных он обыграл меня в пух.
Гедеоновский
засмеялся тоненьким и подобострастным смехом: он заискивал в молодом блестящем
чиновнике из Петербурга, губернаторском любимце. В разговорах своих с Марьей
Дмитриевной он часто упоминал о замечательных способностях Паншина. Ведь вот,
рассуждал он, как не похвалить? И в высшей сфере жизни успевает молодой
человек, и служит примерно, и гордости ни малейшей. Впрочем, Паншина и в
Петербурге считали дельным чиновником: работа кипела у него в руках; он говорил
о ней шутя, как оно и следует светскому человеку, не придающему особенного
значения своим трудам, но был «исполнитель». Начальники любят таких подчиненных;
сам он не сомневался в том, что, если захочет, будет со временем министром.
– Вы
изволите говорить, что я обыграл вас, – промолвил Гедеоновский, – а
на прошлой неделе кто у меня выиграл двенадцать рублей? да еще…
– Злодей,
злодей, – перебил его Паншин с ласковой, но чуть-чуть презрительной
небрежностью и, не обращая более на него внимания, подошел к Лизе.
– Я
не мог найти здесь увертюру «Оберона», – начал он. – Беленицына
только хвасталась, что у ней вся классическая музыка, – на деле у ней,
кроме полек и вальсов, ничего нет; но я уже написал в Москву, и через неделю вы
будете иметь эту увертюру. Кстати, – продолжал он, – я написал вчера
новый романс; слова тоже мои. Хотите, я вам опою? Не знаю, что из этого вышло;
Беленицына нашла его премиленьким, но ее слова ничего не значат, – я желаю
знать ваше мнение. Впрочем, я думаю, лучше после.
– Зачем
же после? – вмешалась Марья Дмитриевна, – отчего же не теперь?
– Слушаю-с, –
промолвил Паншин с какой-то светлой и сладкой улыбкой, которая у него и
появлялась и пропадала вдруг, – пододвинул коленом стул, сел за фортепьяно
и, взявши несколько аккордов, запел, четко отделяя слова, следующий романс:
Луна
плывет высоко над землею Меж бледных туч; Но движет с вышины волной морскою
Волшебный луч.
Моей
души тебя признало море Своей луной, И движется – и в радости и в горе – Тобой
одной.
Тоской
любви, тоской немых стремлений Душа полна; Мне тяжело… Но ты чужда смятений,
Как та луна.
Второй
куплет был спет Паншиным с особенным выражением и силой; в бурном аккомпанементе
слышались переливы волн. После слов: «Мне тяжело…» – он вздохнул слегка,
опустил глаза и понизил голос – morendo [[5]].
Когда он кончил, Лиза похвалила мотив, Марья Дмитриевна сказала: «Прелестно», а
Гедеоновский даже крикнул: «Восхитительно! и поэзия, и гармония одинаково
восхитительны!..» Леночка с детским благоговением посмотрела на певца. Словом,
всем присутствовавшим очень понравилось произведение молодого дилетанта; но за
дверью гостиной в передней стоял только что пришедший, уже старый человек,
которому, судя по выражению его потупленного лица и движениям плечей, романс
Паншина, хотя и премиленький, не доставил удовольствия. Подождав немного и
смахнув пыль с сапогов толстым носовым платкам, человек этот внезапно съежил
глаза, угрюмо сжал губы, согнул свою, и без того сутулую, спину я медленно
вошел в гостиную.
– А!
Христофор Федорыч, здравствуйте! – воскликнул прежде всех Паншин и быстро
вскочил со стула.
– Я
и не подозревал, что вы здесь, – я бы при вас ни за что не решился спеть
свой романс. Я знаю, вы не охотник до легкой музыки.
– Я
не слушиль, – произнес дурным русским языком вошедший человек и,
раскланявшись со всеми, неловко остановился посреди комнаты.
– Вы,
мосье Лемм, – сказала Марья Дмитриевна, – пришли дать урок музыки
Лизе?
– Нет,
не Лисафет Михайловне, а Елен Михайловне.
– А!
Н-у, что ж – прекрасно. Леночка, ступай наверх с господином Леммом. Старик
пошел было вслед за девочкой, но Паншин остановил его.
– Не
уходите после урока, Христофор Федорыч, – сказал он, – мы с Лизаветой
Михайловной сыграем бетговенскую сонату в четыре руки.
Старик
проворчал себе что-то под нос, а Паншин продолжал по-немецки, плохо выговаривая
слова:
– Мне
Лизавета Михайловна показала духовную кантату, которую вы ей поднесли, –
прекрасная вещь! Вы, пожалуйста, не думайте, что я не умею ценить серьезную
музыку, – напротив: она иногда скучна, но зато очень пользительна.
Старик
покраснел до ушей, бросил косвенный взгляд на Лизу и торопливо вышел из комнаты.
Марья
Дмитриевна попросила Паншина повторить романс; но он объявил, что не желает
оскорблять ушей ученого немца, и предложил Лизе заняться бетговенскою сонатой.
Тогда Марья Дмитриевна вздохнула и, с своей стороны, предложила Гедеоновскому
пройтись с ней по саду. «Мне хочется, – сказала она, – еще поговорить
и посоветоваться с вами о бедном нашем Феде». Гедеоновский осклабился,
поклонился, взял двумя пальцами свою шляпу с аккуратно положенными на одном из
ее полей перчатками и удалился вместе с Марьей Дмитриевной. В комнате остались
Паншин и Лиза; она достала и раскрыла сонату; оба молча сели за фортепьяно.
Сверху доносились слабые звуки гамм, разыгрываемых неверными пальчиками
Леночки.
|


