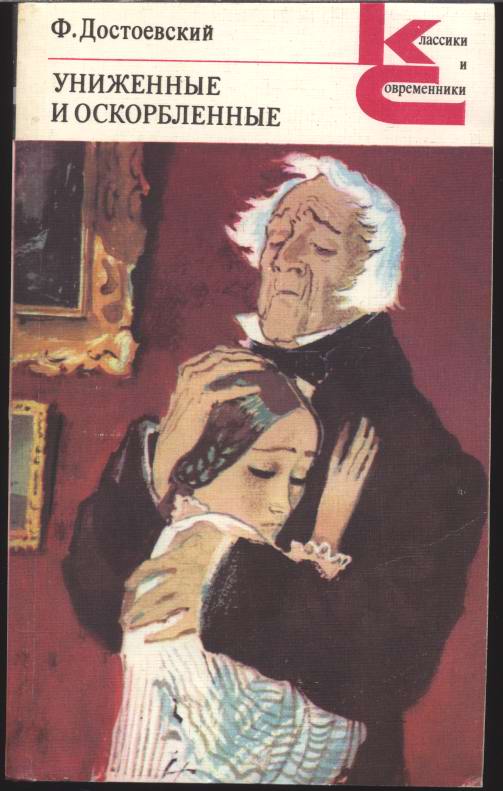
 Увеличить Увеличить |
Глава XII
Старики
очень любили друг друга. И любовь, и долговременная свычка связали их неразрывно.
Но Николай Сергеич не только теперь, но даже и прежде, в самые счастливые
времена, был как-то несообщителен с своей Анной Андреевной, даже иногда суров,
особливо при людях. В иных натурах, нежно и тонко чувствующих, бывает иногда
какое-то упорство, какое-то целомудренное нежелание высказываться и выказывать
даже милому себе существу свою нежность не только при людях, но даже и наедине;
наедине еще больше; только изредка прорывается в них ласка, и прорывается тем
горячее, тем порывистее, чем дольше она была сдержана. Таков отчасти был и
старик Ихменев с своей Анной Андреевной, даже смолоду. Он уважал ее и любил беспредельно,
несмотря на то, что это была женщина только добрая и ничего больше не умевшая,
как только любить его, и ужасно досадовал на то, что она в свою очередь была с
ним, по простоте своей, даже иногда слишком и неосторожно наружу. Но после
ухода Наташи они как-то нежнее стали друг к другу; они болезненно
почувствовали, что остались одни на свете. И хотя Николай Сергеич становился
иногда чрезвычайно угрюм, тем не менее оба они, даже на два часа, не могли
расстаться друг с другом без тоски и без боли. О Наташе они как-то безмолвно
условились не говорить ни слова, как будто ее и на свете не было. Анна
Андреевна не осмеливалась даже намекать о ней ясно при муже, хотя это было для
нее очень тяжело. Она давно уже простила Наташу в сердце своем. Между нами
как-то установилось, чтоб с каждым приходом моим я приносил ей известие о ее
милом, незабвенном дитяти.
Старушка
становилась больна, если долго не получала известий, а когда я приходил с ними,
интересовалась самою малейшею подробностию, расспрашивала с судорожным любопытством,
«отводила душу» на моих рассказах и чуть не умерла от страха, когда Наташа
однажды заболела, даже чуть было не пошла к ней сама. Но это был крайний
случай. Сначала она даже и при мне не решалась выражать желание увидеться с
дочерью и почти всегда после наших разговоров, когда, бывало, уже все у меня
выспросит, считала необходимостью как-то сжаться передо мною и непременно
подтвердить, что хоть она и интересуется судьбою дочери, но все-таки Наташа
такая преступница, которую и простить нельзя. Но все это было напускное. Бывали
случаи, когда Анна Андреевна тосковала до изнеможения, плакала, называла при
мне Наташу самыми милыми именами, горько жаловалась на Николая Сергеича, а при
нем начинала намекать, хоть и с большою осторожностью, на людскую гордость, на
жестокосердие, на то, что мы не умеем прощать обид и что бог не простит
непрощающих, но дальше этого при нем не высказывалась. В такие минуты старик
тотчас же черствел и угрюмел, молчал, нахмурившись, или вдруг, обыкновенно
чрезвычайно неловко и громко, заговаривал о другом, или, наконец, уходил к
себе, оставляя нас одних и давая таким образом Анне Андреевне возможность
вполне излить передо мной свое горе в слезах и сетованиях. Точно так же он
уходил к себе всегда при моих посещениях, бывало только что успеет со мною
поздороваться, чтоб дать мне время сообщить Анне Андреевне все последние новости
о Наташе. Так сделал он и теперь.
– Я
промок, – сказал он ей, только что ступив в комнату, – пойду-ка к
себе, а ты, Ваня, тут посиди. Вот с ним история случилась, с квартирой;
расскажи-ка ей. А я сейчас и ворочусь…
И он
поспешил уйти, стараясь даже и не глядеть на нас, как будто совестясь, что сам
же нас сводил вместе. В таких случаях, и особенно когда возвращался к нам, он
становился всегда суров и желчен и со мной и с Анной Андреевной, даже придирчив,
точно сам на себя злился и досадовал за свою мягкость и уступчивость.
– Вот
он какой, – сказала старушка, оставившая со мной в последнее время всю
чопорность и все свои задние мысли, – всегда-то он такой со мной; а ведь
знает, что мы все его хитрости понимаем. Чего ж бы передо мной виды-то на себя
напускать! Чужая я ему, что ли? Так он и с дочерью. Ведь простить-то бы мог,
даже, может быть, и желает простить, господь его знает. По ночам плачет, сама
слышала! А наружу крепится. Гордость его обуяла… Батюшка, Иван Петрович,
рассказывай поскорее: куда он ходил?
– Николай
Сергеич? Не знаю; я у вас хотел спросить.
– А
я так и обмерла, как он вышел. Больной ведь он, в такую погоду, на ночь глядя;
ну, думаю, верно, за чем-нибудь важным; а чему ж и быть-то важнее известного
вам дела? Думаю я это про себя, а спросить-то и не смею. Ведь я теперь его ни о
чем не смею расспрашивать. Господи боже, ведь так и обомлела и за него и за
нее. Ну как, думаю, к ней пошел; уж не простить ли решился? Ведь он все узнал,
все последние известия об ней знает; я наверное полагаю, что знает, а откуда
ему вести приходят, не придумаю. Больно уж тосковал он вчера, да и сегодня
тоже. Да что же вы молчите! Говорите, батюшка, что там еще случилось? Как
ангела божия ждала вас, все глаза высмотрела. Ну, что же, оставляет злодей-то
Наташу?
Я тотчас
же рассказал Анне Андреевне все, что сам знал. С ней я был всегда и вполне откровенен.
Я сообщил ей, что у Наташи с Алешей действительно как будто идет на разрыв и
что это серьезнее, чем прежние их несогласия; что Наташа прислала мне вчера
записку, в которой умоляла меня прийти к ней сегодня вечером, в девять часов, а
потому я даже и не предполагал сегодня заходить к ним; завел же меня сам
Николай Сергеич. Рассказал и объяснил ей подробно, что положение теперь вообще
критическое; что отец Алеши, который недели две как воротился из отъезда, и
слышать ничего не хочет, строго взялся за Алешу; но важнее всего, что Алеша, кажется,
и сам не прочь от невесты и, слышно, что даже влюбился в нее. Прибавил я еще,
что записка Наташи, сколько можно угадывать, написана ею в большом волнении;
пишет она, что сегодня вечером все решится, а что? – неизвестно; странно
тоже, что пишет от вчерашнего дня, а назначает прийти сегодня, и час
определила: девять часов. А потому я непременно должен идти, да и поскорее.
– Иди,
иди, батюшка, непременно иди, – захлопотала старушка, – вот только он
выйдет, ты чайку выпей… Ах, самовар-то не несут! Матрена! Что ж ты самовар?
Разбойница, а не девка!.. Ну, так чайку-то выпьешь, найди предлог благовидный,
да и ступай. А завтра непременно ко мне и все расскажи; да пораньше забеги.
Господи! Уж не вышло ли еще какой беды! Уж чего бы, кажется, хуже теперешнего!
Ведь Николай-то Сергеич все уж узнал, сердце мне говорит, что узнал. Я-то вот
через Матрену много узнаю, а та через Агашу, а Агаша-то крестница Марьи Васильевны,
что у князя в доме проживает… ну, да ведь ты сам знаешь. Сердит был сегодня
ужасно мой, Николай-то. Я было то да се, а он чуть было не закричал на меня, а
потом словно жалко ему стало, говорит: денег мало. Точно бы он из-за денег
кричал. После обеда пошел было спать. Я заглянула к нему в щелку (щелка такая
есть в дверях; он и не знает про нее), а он-то, голубчик, на коленях перед
киотом богу молится. Как увидала я это, у меня и ноги подкосились. И чаю не пил
и не спал, взял шапку и пошел В пятом вышел. Я и спросить не посмела: закричал
бы он на меня. Часто он кричать начал, все больше на Матрену, а то и на меня; а
как закричит, у меня тотчас ноги мертвеют и от сердца отрывается. Ведь только
блажит, знаю, что блажит, а все страшно. Богу целый час молилась. как он ушел,
чтоб на благую мысль его навел. Где же записка-то ее, покажи-ка!
Я
показал. Я знал, что у Анны Андреевны была одна любимая, заветная мысль, что
Алеша, которого она звала то злодеем, то бесчувственным, глупым мальчишкой,
женится наконец на Наташе и что отец его, князь Петр Александрович, ему это
позволит. Она даже и проговаривалась передо мной, хотя в другие разы
раскаивалась и отпиралась от слов своих. Но ни за что не посмела бы она
высказать свои надежды при Николае Сергеиче, хотя и знала, что старик их подозревает
в ней и даже не раз попрекал ее косвенным образом. Я думаю, он окончательно бы
проклял Наташу и вырвал ее из своего сердца навеки, если б узнал про возможность
этого брака.
Все мы
так тогда думали. Он ждал дочь всеми желаниями своего сердца, но он ждал ее одну,
раскаявшуюся, вырвавшую из своего сердца даже воспоминания о своем Алеше. Это
было единственным условием прощения, хотя и не высказанным, но, глядя на него,
понятным и несомненным.
– Бесхарактерный
он, бесхарактерный мальчишка, бесхарактерный и жестокосердый, я всегда это
говорила, – начала опять Анна Андреевна. – И воспитывать его не
умели, так, ветрогон какой-то вышел; бросает ее за такую любовь, господи боже
мой! Что с ней будет, с бедняжкой! И что он в новой-то нашел, удивляюсь!
– Я
слышал, Анна Андреевна, – возразил я, – что эта невеста
очаровательная девушка, да и Наталья Николаевна про нее то же говорила…
– А
ты не верь! – перебила старушка. – Что за очаровательная? Для вас,
щелкоперов, всякая очаровательная, только бы юбка болталась. А что Наташа ее
хвалит, так это она по благородству души делает. Не умеет она удержать его, все
ему прощает, а сама страдает. Сколько уж раз он ей изменял! Злодеи жестокосердые!
А на меня, Иван Петрович, просто ужас находит. Гордость всех обуяла. Смирил бы
хоть мой-то себя, простил бы ее, мою голубку, да и привел бы сюда. Обняла б ее,
посмотрела б на нее! Похудела она?
– Похудела,
Анна Андреевна.
– Голубчик
мой! А у меня, Иван Петрович, беда! Всю ночь да весь день сегодня проплакала…
да что! После расскажу! Сколько раз я заикалась говорить ему издалека, чтоб
простил-то; прямо-то не смею, так издалека, ловким этаким манером заговаривала.
А у самой сердце так и замирает: рассердится, думаю, да и проклянет ее совсем!
Проклятия-то я еще от него не слыхала… так вот и боюсь, чтоб проклятия не
наложил. Тогда ведь что будет? Отец проклял, и бог покарает. Так и живу, каждый
день дрожу от ужаса. Да и тебе, Иван Петрович, стыдно; кажется, в нашем доме
взрос и отеческие ласки от всех у нас видел: тоже выдумал, очаровательная! А
вот Марья Васильевна ихняя лучше говорит. (Я ведь согрешила, да ее раз на кофей
и позвала, когда мой на все утро по делам уезжал.) Она мне всю подноготную объяснила.
Князь-то, отец-то Алешин, с графиней-то в непозволительной связи находился.
Графиня давно, говорят, попрекала его: что он на ней не женится, а тот все
отлынивал. А графиня-то эта, когда еще муж ее был жив, зазорным поведением
отличалась. Умер муж-то – она за границу: все итальянцы да французы пошли,
баронов каких-то у себя завела; там и князя Петра Александровича подцепила. А
падчерица ее, первого ее мужа, откупщика, дочь меж тем росла да росла.
Графиня-то, мачеха-то, все прожила, а Катерина Федоровна меж тем подросла, да и
два миллиона, что ей отец-откупщик в ломбарде оставил, подросли. Теперь,
говорят, у ней три миллиона; князь-то и смекнул: вот бы Алешу женить! (не
промах! своего не пропустит). Граф-то, придворный-то, знатный-то, помнишь,
родственник-то ихний, тоже согласен; три миллиона не шутка. Хорошо, говорит,
поговорите с этой графиней. Князь и сообщает графине свое желание. Та и руками
и ногами: без правил, говорят, женщина, буянка такая! Ее уже здесь не все,
говорят, принимают; не то что за границей. Нет, говорит, ты, князь, сам на мне
женись, а не бывать моей падчерице за Алешей. А девица-то, падчерица-то, души,
говорят, в своей мачехе не слышит; чуть на нее не молится и во всем ей
послушна. Кроткая, говорят, такая, ангельская душа! Князь-то видит, в чем дело,
да и говорит: ты, графиня, не беспокойся. Именье-то свое прожила, и долги на
тебе неоплатные. А как твоя падчерица выйдет за Алешу, так их будет пара: и
твоя невинная, и Алеша мой дурачок; мы их и возьмем под начало и будем сообща
опекать; тогда и у тебя деньги будут. А то что, говорит, за меня замуж тебе
идти? Хитрый человек! Масон! Так полгода тому назад было, графиня не решалась,
а теперь, говорят, в Варшаву ездили, там и согласились. Вот как я слышала. Все
это Марья Васильевна мне рассказала, всю подноготную, от верного человека сама
она слышала. Ну, так вот что тут: денежки, миллионы, а то что – очаровательная!
Рассказ
Анны Андреевны меня поразил. Он совершенно согласовался со всем тем, что я сам
недавно слышал от самого Алеши. Рассказывая, он храбрился, что ни за что не
женится на деньгах. Но Катерина Федоровна поразила и увлекла его. Я слышал тоже
от Алеши, что отец его сам, может быть, женится, хоть и отвергает эти слухи,
чтоб не раздражить до времени графини. Я сказал уже, что Алеша очень любил
отца, любовался и хвалился им и верил в него, как в оракула.
– Ведь
не графского же рода и она, твоя очаровательная-то! – продолжала Анна
Андреевна, крайне раздраженная моей похвалой будущей невесте молодого
князя. – А Наташа ему еще лучше была бы партия. Та откупщица, а Наташа-то
из старинного дворянского дома, высокоблагородная девица. Старик-то мой вчера
(я забыла вам рассказать) сундучок свой отпер, кованый, – знаете? –
да целый вечер против меня сидел да старые грамоты наши разбирал. Да серьезный
такой сидит. Я чулок вяжу, да и не гляжу на него, боюсь. Так он видит, что я
молчу, рассердился да сам и окликнул меня и целый-то вечер мне нашу родословную
толковал. Так вот и выходит, что мы-то, Ихменевы-то, еще при Иване Васильевиче
Грозном дворянами были, а что мой род, Шумиловых, еще при Алексее Михайловиче
известен был, и документы есть у нас, и в истории Карамзина упомянуто. Так вот
как, батюшка, мы, видно, тоже не хуже других с этой черты. Как начал мне старик
толковать, я и поняла, что у него на уме. Знать, и ему обидно, что Наташей
пренебрегают. Богатством только и взяли перед нами. Ну, да пусть тот,
разбойник-то, Петр-то Александрович, о богатстве хлопочет; всем известно:
жестокосердая, жадная душа. В иезуиты, говорят, тайно в Варшаве записался?
Правда ли это?
– Глупый
слух, – отвечал я, невольно заинтересованный устойчивостью этого слуха. Но
известие о Николае Сергеиче, разбиравшем свои грамоты, было любопытно. Прежде
он никогда не хвалился своею родословною.
– Всь
злодеи жестокосердые! – продолжала Анна Андреевна, – ну, что же она,
мой голубчик, горюет, плачет? Ах, пора тебе идти к ней! Матрена, Матрена!
Разбойник, а не девка!.. Не оскорбляли ее? Говори же, Ваня.
Что было
ей отвечать? Старушка заплакала. Я спросил, какая у ней еще случилась беда, про
которую она мне давеча собиралась рассказать?
– Ах,
батюшка, мало было одних бед, так, видно, еще не вся чаша выпита! Помнишь, голубчик,
или не помнишь? был у меня медальончик, в золото оправленный, так для сувенира
сделано, а в нем портрет Наташечки, в детских летах; восьми лет она тогда была,
ангельчик мой. Еще тогда мы с Николаем Сергеичем его проезжему живописцу
заказывали, да ты забыл, видно, батюшка! Хороший был живописец, купидоном ее
изобразил: волосики светленькие такие у ней тогда были, взбитые; в рубашечке
кисейной представил ее, так что и тельце просвечивает, и такая она вышла
хорошенькая, что и наглядеться нельзя. Просила я живописца, чтоб крылышки ей
подрисовал, да не согласился живописец. Так вот, батюшка, я, после ужасов-то
наших тогдашних, медальончик из шкатулки и вынула, да на грудь себе и повесила
на шнурке, так и носила возле креста, а сама-то боюсь, чтоб мой не увидал. Ведь
он тогда же все ее вещи приказал из дому выкинуть или сжечь, чтоб ничто и не
напоминало про нее у нас. А мне-то хоть бы на портрет ее поглядеть; иной раз
поплачу, на него глядя, – все легче станет, а в другой раз, когда одна
остаюсь, не нацелуюсь, как будто ее самое целую; имена нежные ей прибираю да и
на ночь-то каждый раз перекрещу. Говорю с ней вслух, когда одна остаюся, спрошу
что-нибудь и представляю, как будто она мне ответила, и еще спрошу. Ох,
голубчик Ваня, тяжело и рассказывать-то! Ну, вот я и рада, что хоть про
медальон-то он не знает и не заметил; только хвать вчера утром, а медальона и
нет, только шнурочек болтается, перетерся, должно быть, а я и обронила. Так и замерла.
Искать; искала-искала, искала-искала – нет! Сгинул да пропал! И куда ему
сгинуть? Наверно, думаю, в постели обронила; все перерыла – нет! Коли сорвался
да упал куда-нибудь, так, может, кто и нашел его, а кому найти, кроме него али
Матрены? Ну, на Матрену и думать нельзя; она мне всей душой предана… Матрена,
да ты скоро ли самовар-то? Ну, думаю, если он найдет, что тогда будет? Сижу
себе, грущу, да и плачу-плачу, слез удержать не могу. А Николай Сергеич все
ласковей да ласковей со мной; на меня глядя, грустит, как будто и он знает, о
чем я плачу, и жалеет меня. Вот и думаю про себя: почему он может знать? Не
сыскал ли он и в самом деле медальон, да и выбросил в форточку. Ведь в сердцах
он на это способен; выбросил, а сам теперь и грустит – жалеет, что выбросил. Уж
я и под окошко, под форточкой, искать ходила с Матреной – ничего не нашла. Как
в воду кануло. Всю ночь проплакала. Первый раз я ее на ночь не перекрестила.
Ох, к худу это, к худу, Иван Петрович, не предвещает добра; другой день, глаз
не осушая, плачу. Вас-то ждала, голубчика, как ангела божия, хоть душу отвести…
И
старушка горько заплакала.
– Ах,
да, и забыла вам сообщить! – заговорила она вдруг, обрадовавшись, что
вспомнила, – слышали вы от него что-нибудь про сиротку?
– Слышал,
Анна Андреевна, говорил он мне, что будто вы оба надумались и согласились взять
бедную девочку, сиротку, на воспитание. Правда ли это?
– И
не думала, батюшка, и не думала! И никакой сиротки не хочу! Напоминать она мне
будет горькую долю нашу, наше несчастье. Кроме Наташи, никого не хочу. Одна
была дочь, одна и останется. А только что ж это значит, батюшка, что он
сиротку-то выдумал? Как ты думаешь, Иван Петрович? Мне в утешение, что ль, на
мои слезы глядя, аль чтоб родную дочь даже совсем из воспоминания изгнать да к
другому детищу привязаться? Что он обо мне дорогой говорил с вами? Каков он вам
показался – суровый, сердитый? Тс! Идет! После, батюшка, доскажете, после!..
Завтра-то прийти не забудь…
|


