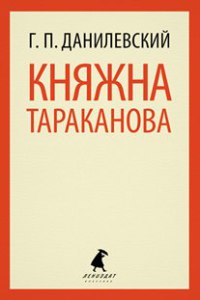
 Увеличить Увеличить |
8
Корабль высадил меня в Анконе. Отсюда я поспешил в Болонью,
где, по слухам, в то время находилась штаб-квартира командующего эскадрой.
Граф Алексей Григорьевич Орлов, хотя и победитель при Чесме,
в душе недолюбливал моря и, сдав ближайшее заведование флотом старшему
флагману, контр-адмиралу Самуилу Грейгу, большую часть времени проживал на
суше. К подчиненным он был отменно ласков и добр, любил простые шутки и,
окруженный царскою пышностью, был ко всем внимателен и доступен.
Мне была памятна жизнь графа в Москве до последней кампании
в греческие воды, прославившей его имя. Орловы были не чужды моей семье.
Покойный мой отец был их сослуживцем в оны годы, и я, проездом из морских
классов на родину, не раз навещал их московский дом. Граф Алексей Григорьевич
был в особенности любимцем Белокаменной. Исполинская, пышущая здоровьем фигура
графа Алехана, как его звали в Москве, его красивые греческие глаза, веселый
беспечный нрав и огромное богатство привлекли в его гостеприимные хоромы все
знатное и незнатное Москвы.
Дом графа Алексея Григорьевича, как теперь помню, находился
за Московской заставой, у Крымского брода, невдали от его подмосковного села
Нескучного.
Москвичи в доме графа любовались гобеленевскими обоями, на
диво фигурчатыми изразцовыми печами с золочеными ножками, собранием древнего
оружия и картин. Его городской сад был украшен прудами, бассейнами, беседками,
каскадами, зверинцем и птичником. А у графских ворот, в окне сторожевого домика,
висела клетка с говорящим попугаем, который выкрикивал перед уличными зеваками:
— Матушке царице виват!
На баснословных пирах графа Алексея Григорьевича, за столом,
под дорогими лимонными и померанцевыми деревьями его теплиц, по слухам, нередко
садилось по триста и более особ.
Русак в душе, граф любил угощать гостей кулачными боями,
песенниками, борцами, причем и сам мерился силой. Он гнул подковы, завивал
узлами кочергу, валил за рога быка и потешал Москву особыми шутками.
Так однажды, в осмеяние возникшей страсти щеголей к лорнетам
и очкам, он послал на гулянье первого мая в Сокольники одного из своих
приживальцев. Одетый наездником последний, среди гуляющих юных модников, стал
водить чалого хромого мерина, на глазах которого были огромные, оправленные жестью
очки, с крупною надписью на переносице: «А ведь только трех лет!»
Но более всего граф привлекал к себе внимание на диво
составленною псовою охотою и своими рысаками. Ни одна лошадь в Москве не могла
сравниться с скакунами графа, смесью арабской крови с английскою и
фрисландскою.
На конском бегу, перед домом у Крымского брода, граф Алехан
зимой, как теперь его вижу, на крохотных саночках, а летом на дрожках-бегунцах
собственноручно проезжал свою знаменитую, белую, без отметин Сметанку или ее
соперницу, серую в яблоках, Амазонку.
Народ гурьбой бежал за графом, когда он, подбирая вожжи, в
романовском тулупчике или в штофном халате, появлялся в воротах на храпящей
белогривой красавице, покрикивая трем Семенам, главным своим наездникам: Сеньке
Белому — оправить оцененную уздечку, Сеньке Черному — подтянуть подпругу, а
Сеньке Дрезденскому — смочить кваском конскую гриву.
Граф был игрив и на письме.
Все знают его письмо о славной чесменской победе к его брату
Григорию:
«Государь братец, здравствуй! За неприятелем мы пошли, к
нему подошли, схватились, сразились, разбили, победили, потопили, сожгли и в
пепел обратили. А я, ваш слуга, здоров. Алексей Орлов».
Это письмо ходило у нас в копиях по рукам.
Прирожденному гуляке, кулачному бойцу и весельчаку, графу в
прежние годы, до войны, никогда и во сне не снилось быть моряком. Он даже к
командованию флотом в Италии явился по сухому пути. Говорили о нем много при
восшествии государыни на престол. После Чесмы заговорили еще более. Для многих
он был загадкой.
На смотры и свои парадные, по-придворному, приемы Алексей
Григорьевич являлся с пышностью, в золоте, алмазах и орденах. Между тем, на
гулянья, как в Париже, выезжал вдруг среди чопорной, гонявшейся за ним знати не
только без пудры и в круглой мещанской шляпе, но даже в простом кафтане, из
серого и нарочито грубого сукна. Я, как и другие, мало угадывал внутренние
побуждения графа и часто от его слов недоумевал. Претонкий, великого ума был
человек.
Я горел нетерпением снова после столь долгой разлуки увидеть
графа, хотя данное мне поручение княжны сильно меня смущало. Перед выездом из
Рагузы я письменно предупредил графа о своем избавлении от турок и сообщил, что
везу ему вести о некоей важной, случайно открытой и виденной мною особе. Долго
длилось мое странствие по Италии; в горах я простудился и некоторое время
пролежал хворый у одного сердобольного магната.
Наконец я добрался до Болоньи.
Не без трепета, отдохнув с дороги и переодевшись, я
приблизился к роскошному графскому палаццо в Болонье, узнал, что граф дома, и
велел о себе доложить. За долгую неволю в плену можно было ожидать доброго
привета и награды, но я был в сомнении, как встретит меня граф за свидание и
переговоры, без разрешения начальства, с опасною претенденткою.
Могли, разумеется, взглянуть на это так и сяк. И если бы
меня по совести спросили, как я гляжу на эту особу, я в то время усомнился бы
дать искренний ответ. Доходили до меня в Рагузе кое-какие сомнительные вести о
ее прошлом, о каких-то связях. Но что было за дело до ее прошлого и мало ли в
какие связи она могла вдаваться, ища выхода из своей тяжкой судьбы! Да еще и
были ли эти связи?
У графа меня тотчас приняли, повели рядом красиво
разубранных гостиных и зал, сперва в нижнем, потом в верхнем ярусе дома.
Тридцативосьмилетний красавец богатырь, граф Алексей
Григорьевич не только дома, но и в то время на чужбине любил-проводить время с
голубями, до которых был страстный охотник. При моем появлении он находился на
вышке своих хором, куда запросто велел лакею ввести и меня.
И что же я увидел? Этот прославленный, умный, необычайной
силы и огромного роста человек, в присутствии коего все прочие люди казались
быть малыми пигмеями, сидел на каком-то стульчике, у раскрытого и пыльного
чердачного окошка. Пребывая здесь, от дневной духоты, в одной сорочке, он попивал
из кружки со льдом какое-то прохладительное и забавлялся, помахивая платком на
стаю кружившихся по двору и над крышами голубей.
— А, Кончик! Здравствуй! — сказал он, на миг
обернувшись. — Что? избавился? поздравляю, братец, садись… А видишь, вон
та пара, каковы?.. Эк, бестии, завились… турманом, турманом!..
Он опять махнул платком, а я, не видя, где мне сесть, стал с
любопытством разглядывать его. Граф за эти годы по покое еще более пополнел.
Шея была чисто воловья, плечи, как у Юпитера или бога Бахуса, а лицо так и
веяло здоровьем и удальством.
— Что смотришь? — улыбнулся он, опять
оглянувшись. — Голубями, видишь, тешимся, пока ты терпел у турок; здесь
все глинистые да чернокромные; трубистых, как у нас, мало и не простые, брат…
Да, за сто верст письма носят… диво, вот бы у нас развести… Ну, рассказывай о
плене и о твоих странствиях…
Я начал.
Граф слушал сперва рассеяние, все посматривая в окно, потом
внимательнее. Когда же я упомянул об особе, виденной в Рагузе, и подал от нее
пакет, граф ковшиком с тарелки метнул голубям горсть зерна и, пока те,
извиваясь гурьбой, слетались на выступ крыши, встал.
— Твои вести, любезный, таковы, — сказал
он, — что о них надо поговорить толком. Сойдем с этой мачты в
кают-компанию.
Мы сошли в нижний ярус дома, потом в сад. Граф по пути
приоделся и приказал не принимать никого. Мы долго бродили по дорожкам. Отвечая
на его вопросы, я вглядывался в выразительные, как бы вдруг затуманенные, глаза
графа. Он меня слушал с особым вниманием.
— Ты хитришь, — вдруг сказал он, идя по
саду. — Почему утверждаешь, что она самозванка, авантюрьера?
Объяснись, — прибавил он, сев на скамью, — с чужого ли голоса ты
говоришь, или убедился лично?
Я смешался, не знал, что говорить.
— Сомнителен ее рассказ о прошлом, — проговорил
я, — как-то сбивается на сказку… Сибирь, отравление, бегство в Персию,
сношения с владетельными дворами Европы. Как верный слуга государыни, я
действовал по совести, всматривался и скажу прямо — не могу утаить сомнений.
— Согласен, — произнес граф, — об этом можно
говорить так и сяк. Но вот что важно: в Петербурге о ней уже знают и пишут мне,
как о побродяжке, всклепавшей на себя неподходящее имя и род.
Граф помолчал.
— Хороша побродяжка! — прибавил он как бы про
себя, загадочно. — Пусть так, не спорю… Но зачем же решили требовать ее
выдачи, а в случае отказа — взять силой, даже бомбардировать рагузскую
цитадель? С побродяжкой так не возятся. Такую просто и без огласки поймать…
навязать камень на шею да и в воду.
Холод прошел у меня по спине при этих словах графа. Я так и вспомнил
приснопамятные, июньские дни…
— То-то, братец, видно, что не побродяжка, —
проговорил опять граф, глядя на меня, — ты как об этом думаешь? Ну-ка,
говори начистоту.
|


