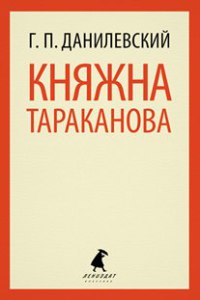
 Увеличить Увеличить |
2
Я пробыл в плену около двух лет. Настал 1775 год.
Вначале меня держали взаперти, в какой-то пристройке
Эдикуля, семибашенного замка, потом в цепях, при одной из трехсот стамбульских
мечетей. Дошел ли туда, на самом деле, слух, что в числе пленных у них
находится Концов, или турки, потеряв надежду на мой выкуп, решили
воспользоваться моими сведениями и способностями, — только они затеяли
склонить меня к исламу.
Мечеть, где я содержался, была на берегу Босфора. Из-за
железной оконной решетки виднелось море. Лодки сновали у берега. Навещавший
меня мулла был родом славянин, болгарин из Габрова. Мы друг друга вскоре стали
понимать без труда… Он начал стороной наставлять меня в турецкой вере; хвалил
мусульманские обычаи, нравы, превозносил могущество и славу падишаха.
Возмущенный этим, я упорно молчал, потом стал спорить. Чтобы расположить меня к
себе и к вере, которую он так хвалил, мулла исхлопотал мне лучшее помещение и
продовольствие.
Меня перевели в нижнюю часть мечети, при которой он состоял,
начали давать мне табак, всякие сласти и вино. Цепей с меня, однако, не
снимали. Сам вероотступник, учитель мой, по закону Магомета, не пил, но усердно
соблазнял меня и манил:
— Прими ислам, будет тебе вот как хорошо, цепи снимут,
смотри, сколько кораблей; поступишь на службу, будешь у нас капитаном-пашой…
Я лежал на циновке, не дотрагиваясь до предлагаемых
соблазнов и почти не слушая его. Моим мыслям представлялась брошенная родина. Я
перебирал в уме друзей, близких, улетевшее счастье. Сердце разрывалось, душа
изнывала от неизвестности и тоски по родине. О, как мне памятны часы того
тяжкого, рокового раздумья!
Как теперь соображаю, я тогда вспомнил наш тихий, далекий
украинский поселок, родовую Концовку. Я сиротой, в офицерском чине, прибыл из
петербургских морских классов на побывку к бабушке. Ее звали Аграфеной
Власьевной и тоже Концовой. У бабушки, поблизости города Батурина, были богатые
соседи по деревне, Ракитины, отставной бригадир-вдовец Лев Ираклиевич и его
дочка Ирина Львовна.
То да се, езда в ракитинскую церковь, потом в тамошние
хоромы, свидания, прогулки, ну — молодые и полюбились друг другу. Мои чувства к
Ракитиной были страстны, неудержимы. Ирен, пленительная, смуглая и с пышными
черными волосами, стала для меня жизнью, божеством, на которое я день и ночь
молился. Мы объяснились, сблизились, неведомо для других. Боже, что это были за
мгновения, что за беседы, клятвы! Началась пересылка страстных грамоток. Я
всегда любил музыку. Ирен дивно играла на клавикордах и пела из Глюка, Баха и
Генделя. Мы виделись часто. Так тянулось лето, дорогие, памятные дни! Одно из
моих писем к Ирен, по несчастной случайности, попалось в руки ее отца. Был ли
Ракитин к дочке не в меру строг и суров, уговорил ли ее отказаться от меня,
променяв преданного и верного ей человека на иного… только горько, тяжело о том
и вспомнить.
Была осень и, как теперь помню, — праздник. Мы
собирались в ракитинскую церковь. Кто-то въехал к нам во двор. Разряженный
ливрейский лакей подал бабушке, привезенный им от Ракитиных, запечатанный
пакет. Сердце мое так и ойкнуло. Предчувствие сбылось. Бабушке относительно
меня был прислан точный и бесповоротный отказ.
«Простите, мол, матушка Аграфена Власьевна, ваш Павел
Евстафьевич всем достоин, всем хорош и пригож, — писал бригадир
Ракитин, — но моей дочери, извините, он не пара и напрасно с ней
пересылается объяснениями. Пусть не гневается, а мы ему были и будем, кроме
означенного, друзьями и желаем вашему крестнику и внуку найти стократ лучшую и
достойнее его».
Сразило меня это письмо. Померк свет в глазах. Вижу —
пресеклось дорогое, чаемое счастье. Гордецы, богачи, свойственники Разумовских,
Ракитины без жалости презрели небогатого, хоть и коренного, может быть, древнее
их дворянина. Спесь и знатность родства, близкого ко двору бывшей императрицы,
взяли верх над сердцем. И прежде было слышно, что отец Ариши прочил свою дочь
во фрейлины, в высший свет.
— Бог с ними! — твердил я как безумный, ходя по
некогда приветливым, ныне мне опостылым светлицам бабушки.
День был пасмурный, срывался мелкий дождь. Я велел оседлать
коня, бросился с отчаяния в степь, прискакал к лесу, граничившему с ракитинскою
усадьбою, и носился там по полям и опушке, как тронувшийся в уме. Ветер шумел в
деревьях. Поля были пусты. К ночи я подвязал коня к дереву и садом из леса
подошел к окнам Аришиной комнаты. Что я перечувствовал в те мгновения! Помню,
мне казалось — стоит только дать ей знать, и она бросится ко мне, мы уйдем на
край света. Безумец, я надеялся ее видеть, с нею обменяться мыслями, наболевшим
горем.
— Брось отца, брось его, — шептал я, вглядываясь в
окна. — Он не жалеет, не любит тебя.
Но тщетно: окна были темны и нигде в смолкнувшем доме не
было слышно людского говора, не сказывалось жизни. Две следующих ночи я снова
пробирался садом к дому, сторожил у знакомой горенки, откуда прежде она
подавала мне руку, бросала письма, не выглянет ли Ирен, не сообщит ли о себе
какой вести. Посылал ей тайно и письмо — ответа не было. В одну ночь я даже
решил убить себя у окна Ирен, ухватился даже за пистолет.
«Нет, — решил я тогда, — зачем такая жертва? Быть
может, она променяла меня на другого. Подожду, узнаю, может быть, и впрямь
нашелся счастливый соперник».
После я узнал, да уже поздно, что Ракитин, написав мне
отказ, увез дочку в дальнее поместье своих родных, куда-то на Оку, где
некоторое время ее держал под строгим присмотром.
|


