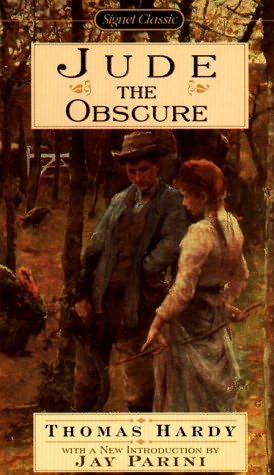
 Увеличить Увеличить |
Часть вторая
В КРИСТМИНСТЕРЕ
Кроме души своей, нет у него звезды.
Суинберн
Notitiam primosque gradus vicinia fecit;
Tempore crevit amor.
Ovid[4]
I
Следующий примечательный этап в жизни Джуда совпадает с
появлением его на дороге, по которой он шел сквозь сумерки все вперед и вперед,
под сенью деревьев, на которых уже трижды сменилась листва с тех пор, как он
ухаживал за Арабеллой, а потом разорвал свой неудавшийся брачный союз. Он
направлялся в Кристминстер и находился в миле или двух к юго-западу — от
города.
Мэригрин и Элфредстон остались наконец позади: годы учения
кончались, и с инструментами за плечами Джуд как бы собирался начать новую
жизнь — жизнь, которую он предвкушал почти десять лет, если не считать
перерыва, связанного с увлечением Арабеллой и женитьбой.
Теперь Джуд был молодым человеком с волевым, задумчивым, и
скорее серьезным, чем красивым лицом. Смуглый, с темными, под стать коже,
глазами, он носил коротко подстриженную черную бороду, необычно густую для его
возраста: борода эта и шапка черных курчавых волос доставляли ему немало
хлопот: их приходилось расчесывать и отмывать от каменной пыли, которая
садилась на них во время работы. Что же касается самой работы, то поскольку он
обучался ремеслу в провинции, он был мастер на все, включая тесание камня для
надгробных плит, обработку камня для реставрация готических церквей и вообще
всякую резьбу по камню. Возможно, в Лондоне он выбрал бы себе какую-то одну
специальность — стал бы мастером по лепным украшениям или лиственному орнаменту,
а быть может, и скульптором.
В тот день он доехал на двуколке от Элфред стона до
ближайшей к Кристминстеру деревни и оставшиеся четыре мили шел пешком — не по
необходимости, а по внутреннему побуждению: именно так ему всегда
представлялось его прибытие в этот город.
Окончательно решить с переездом ему помогло одно любопытное
обстоятельство, связанное скорее сего чувствами, чем с разумными намерениями,
как это часто бывает с молодыми людьми. Проживая в Элфредстоне, он зашел как-то
в Мэригрин проведать свою двоюродную бабку и заметил у нее на камине между
медными подсвечниками фотографию хорошенькой девушки в широкополой шляпе с
вуалью. Он спросил, кто это, и бабка буркнула в ответ, что это его двоюродная
сестра Сью Брайдхед из враждебной ветви их рода; на дальнейшие расспросы
старуха отвечала, что девушка живет в Кристминстере, но где и чем занимается —
неизвестно.
Фотографию бабка не захотела отдать, но она все время стояла
у него перед глазами и в конечном счете ускорила осуществление давнишнего его намерения
последовать за своим другом — школьным учителем.
На вершине невысокого горбатого холма он остановился,
впервые увидев Кристминстер вблизи. Серокаменный, с буровато-коричневыми
крышами, город стоял у самой границы Уэссекса, чуть вдаваясь в него в самой
северной точке извилистой пограничной линии, вдоль которой лениво несет свои
воды Темза, орошая поля этого древнего королевства. Дома его мирно отдыхали
сейчас в свете заходящего солнца, и только флюгера на многочисленных шпилях и
куполах оживляли своим блеском спокойные, размытые тона пейзажа.
Спустившись с холма, он зашагал по ровной дороге между
рядами подстриженных ив, смутно вырисовывавшихся в вечерних сумерках, и вскоре
увидел первые огни городских окраин — те самые огни, что озаряли небо мерцающим
сиянием, которое столько лет назад, в пору мечтаний, уловил его напряженный
взор. Они недоверчиво мигали ему желтыми глазами, словцо, прождав его все эти
годы и разочарованные его медлительностью, не очень-то обрадовались ему теперь.
Дик Уиттингтон в душе, он стремился в целям более
возвышенным, чем грубая материальная выгода. С настороженностью исследователя
проходил он по окраине города, но подлинного города в этой части предместья не
видел. Его первой заботой было найти себе пристанище, и он тщательно изучал
такие кварталы, где ему могли бы предложить за умеренную плату скромное
помещение, в котором он нуждался; в конце концов ой снял комнату в предместье,
именуемом в народе «Вирсавия», хотя он этого еще не знал. Устроившись на новом
месте и выпив чашку чаю, он вышел погулять.
Была ветренная, безлунная, полная шорохов ночь. Чтобы
определить, где он находится, Джуд развернул под фонарем карту, лсоторую
прихватил с собой. Ветер шевелил и трепал ее, но Джуду все же удалось
установить, в каком направлении идти, чтобы попасть в центр города.
Сделав несколько поворотов, он впервые в жизни увидел
старинное Средневековое здание. Насколько можно было судить по воротам, это был
колледж. Он вошел во двор и обошел здание кругом, заглядывая в самые темные
уголки, куда не достигал свет фонарей. Рядом с этим колледжем стоял другой, а
чуть подальше еще один, и вот Джуд словно погрузился в атмосферу мыслей и
чувств этого древнего города. Когда он проходил мимо зданий, не гармонировавших
с общим обликом города, он безучастно скользил по ним взглядом, будто не
замечая их.
Зазвонил колокол, он стал считать удары и насчитал их сто
один. Наверное, ошибся, подумалось ему, ударов должно быть ровно сто.
Когда ворота закрыли и он больше не мог заходить в
квадратные дворы колледжей, он стал бродить вдоль стен и подъездов, знакомясь
наощупь с рисунком лепных и резных украшений. Время шло, прохожие встречались
все реже и реже, а он все блуждал под сенью старинных зданий, ибо разве не об
этом мечтал он последние десять лет? Подумаешь, велика важность — не поспать
ночь! В вышине на фоне черного неба вырисовывались в отблесках фонаря башенки,
украшенные лиственным орнаментом, и зубчатые стены. В темных улочках, по
которым ныне, казалось, уже не ступала нога человека и само существование которых
было предана забвению, выступали портики, эркеры и подъезды в пышном и вычурном
средневековом стиле, а выветрившийся камень подчеркивал, что все это давно
умерло. Трудно было себе представить, что в этих, ветхих, заброшенных покоях
обитает современная мысль.
Не имея здесь ни родных, ни знакомых, Джуд вдруг проникся
ощущением полного своего одиночества. У него было странное чувство человека,
который движется среди людей, словно привидение, невидимый и неслышимый для
них. Он вздохнул печально и, сам похожий на собственную тень, задумался об,
иных тенях, незримо присутствующих в этих закоулках.
Еще когда он только готовился к этому серьезному шагу, разом
избавившись и от жены, и от домашнего имущества, он прочел и изучил почти все,
что можно было прочесть и изучить в его положении о знаменитостях, которые
провели в этих священных стенах свои юные годы и чей дух царил здесь в годы их
зрелости. Но поскольку его выбор авторов был случаен, некоторые из них
непомерно вырастали в его глазах по сравнению с другими. Шорох ветра о выступы
стен, дверные косяки и углы домов звучал, словно шаги их давно ушедших от нас
обитателей; шелест плюща казался невнятным разговором их скорбных душ, а
беспокойно двигающиеся тени — их бесплотными образами, разделявшими с ним его одиночество.
И чудилось во мраке, будто он сталкивается с ними, не ощущая их физически.
Улицы стали совсем безлюдными, но бесплотные образы
удерживали его и не давали вернуться домой. Были средь них поэты времен ранних
и поздних, начиная с друга Шекспира, восхвалявшего его, и кончая тем, кто
лишь недавно отошел в небытие, а также мелодичный поэт, здравствующий и поныне.
Вереницей тянулись мимо него задумчивые философы, причем не обязательно
седовласые, с наморщенными лбами, как их изображают на портретах, а цветущие,
стройные, подвижные, как и подобает молодости; облаченные в стихари современные
богословы, наиболее реальными среди которых для Джуда были основатели так
называемой трактарианской религиозной школы — известная троица: энтузиаст, поэт
и любитель формул, — отголоски их учения он слышал даже в своем убогом
доме. Воображению его рисовалось, как они вздрагивают от отвращения при виде
прочих сынов города: человека в алонжевом парике, государственного мужа,
распутника, резонера и скептика; гладко выбритого историка, столь иронически
вежливого к христианству, и других им подобных с той же скептической жилкой,
которые знали здесь каждый двор не хуже истинно верующих и наравне с ними могли
посещать святые монастыри.
Он видел разного рода государственных деятелей — людей
энергичных, мечтателей; ученых, ораторов, тружеников; тех, чей ум с годами рос,
и тех, чей ум с годами притуплялся.
Перед мысленным взором его в странном беспорядке проходили
ученые-филологи — люди с задумчивыми лицами и нахмуренными от усиленных занятий
лбами, близорукие, как летучие мыши; затем официальные лица —
генерал-губернаторы и вице-короли, которые мало его интересовали; верховные
судьи и лорд-канцлеры — молчаливые фигуры с поджатыми губами, имена которых он
едва знал. Пристальнее приглядывался он к прелатам, памятуя былые свои мечты.
Они явились перед ним целым роем, одни — люди с добрым сердцем, другие — люди
рассудка: защитник богослужения на латинском языке, безгрешный автор «Вечернего
гимна», а с ним рядом — великий странствующий проповедник, сочинитель гимнов,
фанатик, преследуемый, подобно Джуду, неудачами в супружеской жизни.
Он вдруг заметил, что разговаривает вслух, как бы беседуя с
ними, словно актер в мелодраме, который обращается к зрителям по ту сторону
рампы, и тут же замолк, сообразив, как это нелепо. Быть может, его бессвязные
речи были услышаны каким-нибудь студентом или мыслителем, склонившимся над
книгой в этих стенах, быть может, он поднял голову, подивившись, что это за
голос и о чем он вещает. Только теперь Джуд заметил, что если говорить о
существах из плоти и крови, то он один, исключая редких запоздалых горожан,
разгуливает сейчас по этому древнему городу и, кажется, рискует схватить
простуду.
Тут до него донесся голос из тьмы — голос совершенно земной
и реальный:
— Что-то давненько вы здесь сидите, молодой человек!
Замышляете что, а?
Голос принадлежал полисмену, который незаметно для Джуда
следил за ним.
Джуд вернулся домой и лег спать, немного почитав перед сном
об этих людях и том новом, что они поведали миру, — он прихватил с собой
несколько книг, посвященных сынам университета. Когда он засыпал, ему
слышалось, будто они бормочут те самые сакраментальные слова, которые он только
что прочел, — одни внятна другие невнятно. Один из призраков (тот, что
впоследствии оплакал Кристминстер как «родину безнадежных предприятий», хотя
Джуд об этом не вспомнил) обращался к городу с такими словами:
«Чудесный город! Древний и прекрасный, не затронутый бурной
интеллектуальной жизнью нашего века, та кой безмятежный!.. Неизъяснимые чары
его неизменно влекут нас к нашей истинной цели, к идеалу, к совершенству».
Другой голос принадлежал поборнику хлебных законов, чья тень
явилась Джуду в квадратном дворе с большим колоколом. Джуду чудилось, будто сей
дух произносит исторические слова своей знаменитой речи:
«Сэр, быть может, я не прав, но я полагаю, что мой долг
перед родиной, которой угрожает голод, требует прибегнуть к средству, какое
обычно используется при подобных обстоятельствах, а именно — открыть людям
свободный доступ к продовольствию, откуда бы оно ни шло… Вы можете завтра же
отнять у меня мой пост, но вы никогда не отнимете у меня сознания, что я
воспользовался властью, мне вверенной, из побуждений честных и бескорыстных, а
не из желания удовлетворить свое честолюбие и не из стремления к личной
выгоде».
Потом заговорил лукавый автор бессмертной главы о
христианстве:
«Как простим мы языческому миру философов косное равнодушие
к доказательствам (чудесам), явленным Всемогущим?.. Мудрецы Греции и Рима,
отвратившись от зрелища, вызывающего благоговейный трепет, не сумели увидеть
каких-либо изменений в моральных и физических законах, управляющих миром».
Потом тень поэта, последнего из оптимистов:
Как создан мир для каждого из нас!
. . . . . . . . .
И каждый из людей приносит обновленье
В жизнь человечества по общему
закону.
Потом один из трех энтузиастов, кои виделись ему только что,
автор «Апологии»:
«Мой довод состоял в том… что абсолютная уверенность в
истинах естественной теологии явилась результатом слияния взаимно совпадающих
допущений… что допущения, которым недостает логической убедительности, не могут
быть основой уверенности в истинности мышления».
Второй из них, отнюдь не полемист, шептал умиротворяюще:
К чему нам в жизни одиночества
страшиться,
Коль каждый в смерти волей неба
одинок?
Услышал он и несколько фраз, произнесенных призраком с
мелкими чертами лица — благодушным Зрителем:
«Когда я гляжу на могилы великих, во мне умирает всякое
чувство зависти; когда я читаю эпитафии прекрасному, исчезают все необузданные
желания; когда встречаюсь я у могильной плиты со скорбью родителей, сердце мое
смягчается от сострадания; когда я вижу могилы самих родителей, я постигаю
тщету скорби о тех, за кем мы вскоре должны последовать».
И, наконец, прозвучал кроткий голос прелата, под чьи
знакомые мягкие рифмы, дорогие Джуду с раннего детства, он погрузился в сон:
Дай мне жить так, чтобы могила
Не больше, чем постель, страшила.
Дай умереть…
Он проснулся только утром. Призрачного прошлого и след
простыл, все говорило о сегодняшнем дне. Он быстро сел на постели, думая, что
проспал, потом воскликнул:
— Бог мой, я совсем забыл о моей хорошенькой кузине, о
том, что она живет здесь!.. И о моем старом школьном учителе тоже!
О школьном учителе он вспомнил, пожалуй, с меньшим пылом,
чем о кузине.
|


