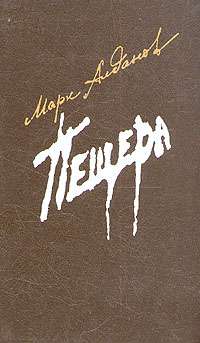
 Увеличить Увеличить |
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
I
— Ah, jamais vous ne faites pas comme
je veux!..[1]
Баронесса Стериан сердилась. Метрдотель был опытный,
представительный, честный (продукты, правда, ворует, зато денег не трогает), и
звали его Альбером, — после Батиста самое лучшее имя для метрдотеля. Но он
все старался делать по-своему, просто надо следить за каждым шагом. Стол,
впрочем, был недурен. Еды было необычайно много для маленького приема в
Париже, — это и приводило в растерянность метрдотеля. Леони хотела поручить
буфет модной кондитерской, — так она постоянно делала прежде: посчитают,
при нынешней дороговизне, франков по 25 с человека (баронесса в сердитые минуты
говорила про себя: «с морды»), зато никаких хлопот. Однако решено было устроить
буфет собственными силами: и чище, и дешевле, и более distingué[2]. Да и не стоит платить метрдотелю жалованье,
если поручать приемы кондитерской. При Леони было одно, а теперь другое. Икры
не было — что ж делать, если Россия отрезана, да и там нет никакой икры; нигде
больше нет икры, «и не будет», — говорят мрачные люди. Но были бутерброды
с цыпленком и новые, английские сандвичи, сделанные из четырех разных сортов
хлеба и сыра, складывавшихся пластами в кубик и снова разрезавшихся сверху
вниз; мужчинам лишь бы жрать, но дамы-хозяйки заметят. Баронесса только
вздохнула, глядя на буфет с чувством мухи, сидящей на сетке, которой прикрыты
пирожные. Ей, как всегда, очень хотелось есть. Режим разрешал ей по вечерам
апельсин, чашку чая без сахару, да еще небольшой сухарь, — «но лучше бы и
без сухаря», — говорил доктор. «А вот возьму и съем большой
бутерброд», — решила баронесса.
Отдав распоряжения метрдотелю, она подошла к двери гостиной,
стала так, что из игравших в бридж людей ее могла видеть только Леони, и
попробовала силу своего взгляда. Удалось: Леони оторвалась от карт и,
по-прежнему улыбаясь, медленно кивнула головой, чуть заметно подняв брови. Это
приблизительно означало: «Помню, помню, но еще нельзя, что ж делать!..»
Разливать чай было рано. «У них, кажется, тогда и партии еще не было… До
роббера не меньше, как пять — десять минут, — подумала баронесса. —
Разве к Мишелю зайти? Что он все зубрит…»
Мишель готовился к экзамену в Ecole des Sciences politiques.[3] Однако баронесса застала
его не за книгами. Он занимался боксом. Без пиджака, жилета и подтяжек, в
толстых рукавицах, наклонив голову, упруго покачиваясь на странно расставленных
ногах, он изо всей силы бил по большому черному мячу, — мяч так и носился
в разные стороны на длинном металлическом стержне. «Господи! Сумасшедший!..»
Баронесса, жмурясь, с ужасом представила себе, что в мяч на таком ударе можно
невзначай попасть и ногтем, — «а у него такие хорошие, умные ногти! Вдруг
расколется, ай!..» Она придавала у мужчин большое значение ногтям и как-то
по-своему их классифицировала.
— Вот как вы готовитесь к экзаменам, тореадор?
— Mille pardons, grand’maman.[4]
Он потянулся было к пиджаку, аккуратно повешенному на спинку
стула, но решил, что можно остаться и без пиджака.
— Бабушка, нельзя входить, не стучась, — сказал
он. — В России, верно, было можно, а в Париже нельзя.
— Дерзкий мальчишка, я постучала… Да ведь вы ничего не
слышите, когда занимаетесь этой идиотской гимнастикой…
Мишель, ласково улыбаясь, попробовал взять ее за руку.
— Как вы великолепны! Позвольте поцеловать ручку.
— Сначала снимите эту гадость, ваши рукавицы.
— Oui, grand’maman.[5]
Это обращение было, разумеется, милой шуткой, как и ее
строгий начальственный тон. Баронесса по возрасту так не годилась в бабушки,
что милая шутка не могла ее задеть. Однако она предпочла бы, чтобы он называл
ее иначе. Родство между ними было очень отдаленное: неизвестно где находившийся
муж баронессы чем-то приходился давно умершему отцу молодого человека.
— Ну, вот… Позвольте поцеловать… Ваше платье верх
совершенства.
— Очень рада, что вы одобряете.
Ей нравились почти все молодые люди. Но этот нравился ей
особенно. «И некрасивый ведь, совсем некрасивый, а молодец… Очень развитой
», — выдала ему русский диплом баронесса. Мишель в самом деле много читал,
но не «запоем», как русские студенты, а всегда одинаково, в определенные часы,
за письменным столом, на котором в совершенном порядке были расставлены
чернильница, стойка с перьями, пресс-папье, пепельница. Больше на его столе
ничего не было. Неуютный вид имела и вся комната, с мячом для бокса, с гирями в
углу, с двумя перекрещенными рапирами на стене. Он усердно занимался
гимнастикой. Это тоже нравилось баронессе, хоть она называла его сумасшедшим.
Нравилось ей и то, что он хорошо и неохотно играл в шахматы, в бридж, в покер,
что он с недоброй усмешкой слушал речи старших, а в разговор вмешивался редко;
но когда вмешивался, то отстаивал свой взгляд твердо, самоуверенно и злобно.
— А вы когда будете готовы? Сейчас подадут чай.
— Oui, grand’maman, — сказал Мишель с той же
улыбкой. Эта раз навсегда принятая улыбка относилась и к ее смешному
французскому языку, и к ее салону, и ко всему тому, что могла делать, думать и
говорить баронесса Стериан. Впрочем, он почти ко всем знакомым, особенно к
старшим, относился с беспредметной воинственной насмешливостью молодого
человека, которого никак не проведешь.
— Кто у вас сегодня? — спросил Мишель, садясь
перед зеркалом, стоявшим на низком комоде. Он неторопливо снял мягкий
воротничок, бросил его в нижний ящик комода, достал из верхнего ящика твердый
воротник и надел, ловко защелкнув запонку, — отчетливое тугое движенье
пуговки доставило ему удовольствие. Ящик вдвинулся в комод ровно, не сбиваясь
на бок у стенок, точно был смазан маслом. Баронесса однако успела
заглянуть, — там тоже все было разложено в необыкновенном порядке. «Вот, с
нашими, с Витей, например, его сравнить! Нет, никто как парижане… Жаль, что он
не француз!.. И жаль все-таки, что некрасивый…»
— Во-первых, не «у вас», а «у нас».
— Я тут ни при чем. А во-вторых?
— А во-вторых, очень почтенные люди. Депутат Доминик
Серизье…
— Вот кого я с удовольствием повесил бы!
— Перестаньте говорить глупости, тореадор… Затем мистер
Блэквуд, тот самый, миллиардер… Его не повесили бы?
— У вас все американцы миллиардеры. У Блэквуда
миллионов двадцать пять — тридцать. Разумеется, долларов.
— Говорят, гораздо больше. Но и это тоже недурно.
— Очень недурно. А идея его глупая.
— Какая идея?
— Производственный банк… Кто еще?
— Остальные русские. Нещеретов, затем один журналист…
Ради Бога, простите, но он еврей.
— Муся будет?
— Она для вас не Муся, а госпожа Клервилль… Обещала
приехать из театра с вашей сестрой. Какой у вас замечательный галстух!
— Восемь франков.
— Это много, восемь франков? — спросила баронесса,
мысленно переводя на русские деньги. «Как считать? В Одессе платили по рублю за
франк. Восемь рублей галстух… Однако!..» Она знала, что у Мишеля мало денег; у
него было всего три костюма и ни одного нового; недавно он сам за столом
говорил об этом в том шутливо-раздраженном тоне, в каком почти всегда говорил с
матерью. Но на его костюмах никогда не было ни пятнышка, ни соринки, складка на
брюках была туго приглажена, и всем, кроме очень осведомленных людей и портных,
казалось, что он прекрасно одет, по самой последней моде. — Вы, как
всегда, tiré en quatre épingles.[6]
— A quatre épingles.
— Отстаньте!
— Вы сами просили, чтобы я вас поправлял… Галстук я
купил на распродаже в Латинском квартале. В хорошем магазине он стоил бы вдвое.
Как я могу хорошо одеваться, если maman дает мне двести франков в месяц?.. Она
ведь почему-то считает, что все наши деньги принадлежат ей.
— Как вам не стыдно! — лениво попрекнула его
баронесса. «А ведь в самом деле состояние, верно, детей, а не Леони, —
подумала она, и у нее шевельнулась тревожная мысль о салоне. — Вдруг они
потребуют денег?.. Скорее, та девчонка… Мишель не потребует, он не жадный…»
— Отчего стыдно? — с усмешкой переспросил Мишель.
Баронесса немного смутилась: ей показалось, что он угадал ее
беспокойство. — Я отлично знаю, что maman бережет деньги для нас. Но и она
должна знать, что я не мот, не игрок, не развратник («правда», — не без
сожаления подумала баронесса). Пока мне не нужно… Не очень нужно, —
поправился он. — А Через два года понадобится, тогда я возьму свою долю.
«…Ишь ты, „возьму“… у Леони зубами не выгрызешь, —
усомнилась мысленно баронесса. — Ну, через два года будет видно…»
— Зачем вам деньги? Живете ведь… Отлично живете.
— Я пока ничего и не требую. Но потом… В политике,
Hélène, прежде всего нужна денежная независимость… Тогда я не буду считаться с
удобствами maman, — ответил он, слегка разгорячившись. — Тогда я с
ней поговорю.
«Политика!.. Какая у них в Румынии может быть политика?» —
подумала благодушно баронесса, довольная тем, что он назвал ее по имени, вместо
этого глупого grand’maman. — «И книжки у него все политические, и вот,
портреты…» В комнате молодого человека, против большого книжного шкафа, висели
рядом Клемансо и какой-то румын, фамилию которого баронесса так и не могла
запомнить, — знала только, что это очень правый румын. На другой стене висел
портрет Карпантье. «В комоде порядок, а в голове, верно, каша… Все теперь
левые, а он правый…»
— Поменьше болтайте, тореадор, — наставительно
сказала она. Она почему-то так прозвала Мишеля. — Ну, я пойду… Как
услышите шум в столовой, приходите чай пить. Удостойте нас посещением,
приходите, а то невежливо, и с Блэквудом не познакомитесь…
— Oui, grand’maman — опять прежним нагло-почтительным
тоном сказал Мишель. Он пожалел, что чуть только не заговорил серьезно с этой
тупой и ограниченной, хоть хитрой, женщиной. В передней раздался звонок. «Кто
бы это? Ведь у Жюльетт ключ», — спросила себя баронесса, поспешно
направляясь к передней. Неожиданные звонки бывали ей неприятны, — то ли
это осталось от большевистского времени в России, то ли у нее всегда было беспричинно-тревожное
чувство: вдруг скандал, полиция, мало ли что может быть? Перед зеркалом
поправляла волосы Муся Клервилль в бархатном, отделанном горностаем манто. «Та
модель Madeleine et Madeleine, bleu de roy[7],
тысяча девятьсот, — оценила баронесса. — Нет, мех у нее был свой,
тогда дешевле…»
— Здравствуйте, Елена Федоровна, — по-русски
сказала Муся. — Это я позвонила, я не сообразила, что у Жюльетт ключ.
— Здравствуйте, моя прелесть… Какое чудесное манто! Не
поцелуешь вас, боюсь помять…
Они в России были едва знакомы и понаслышке, как иногда
бывает, терпеть не могли друг друга. Но, оказавшись в Париже, неожиданно
сошлись, очень часто встречались и в последнее время стали даже целоваться при
встрече.
— Bonsoir, Juliette.[8]
— Bonsoir, madame[9], —
холодно ответила сестра Мишеля. Она не отдала метрдотелю пальто, которое тот
хотел взять, и сама бережно положила на стул. Альбер вышел в столовую.
— Как же вы так рано? Ведь вы из «Vaudeville»? Что
давали? — спросила по-французски баронесса.
— «Пастер». Скучная пьеса, но очень хорош Гитри, я его
обожаю, — сказала Муся, не отворачиваясь от зеркала. По-французски певучие
интонации у нее сказывались сильнее. — Нет лучше актера в мире!.. Какой
странный этот ваш метрдотель… Ужасно похож на сыщика в фильмах…
— На кого? На сыщика? — спросила с некоторым
беспокойством баронесса.
— Знаете, когда на улице сыщик подходит к возмущенному
джентльмену и показывает свой жетон. Надпись: «благоволите немедленно следовать
за мной»… А публика всегда очень довольна, даже если джентльмен честнейший
человек… Так вот, у этих сыщиков такой же достойный, хмурый вид, как у вашего
Альбера. — Муся весело засмеялась. — Кто у вас? Я так войду, можно?
— Немножко жарко будет, у нас единственный дом, где
теперь хорошо топят, — ответила баронесса невозмутимо. Она отлично знала,
что Муся войдет в гостиную в манто, а потом, минут через пять, скажет: «Ну, я у
вас согрелась», и отошлет манто в переднюю. «И платье, кажется, новое… Денег
куры не клюют…» Баронесса чувствовала себя разбитой наголову: на ней тоже было
хорошее платье, но она его уже два раза надевала, и один раз это платье было на
ней при Мусе. — У нас кто? — рассеянно переспросила она. —
Сейчас кончают роббер, пойдем чай пить… Сегодня почти никого… Депутат Серизье,
Нещеретов, дон Педро… Да еще мистер Блэквуд, богач этот, — небрежно
добавила она, — вы, может быть, слышали?
— О! О! Жюльетт, что ж вы мне не сказали?
Жюльетт вдруг пригнула голову к груди и беззвучно
захохотала. У нее была такая манера — заразительно-радостно хохотать, поднимая
плечи и низко пригибая голову. Муся оглянулась на нее и тоже засмеялась с
легкой завистью. «Собственно ничего нет красивого в этой манере, а забавно… Мне
так уже нельзя смеяться… У нее по-старушечьи выходит смешно. Счастливица,
девятнадцать лет…»
— Чему вы радуетесь?
— Нет, нет, я так…
— Elle est folle, cette petite.[10]
Муся отвернулась от зеркала и, в полном вооружении, в манто
bleu de roy, в еще скрытом платье и драгоценностях, пошла в атаку на гостиную.
Баронесса задержалась в передней и неодобрительно поглядела на Жюльетт. Та
перестала смеяться.
— Вы не идете в гостиную, Жюльетт?
— Да, сейчас. Сначала зайду к себе.
Она вышла из передней. «Тоже для Серизье
прихорашивается», — подумала с досадой баронесса. Сестра Мишеля очень ей
не нравилась. В отличие от брата, она была недурна собой («Так себе, a peine[11] хорошенькая», —
говорила баронесса), да и ни в чем другом на брата не походила; у них и
привязанности не было никакой друг к другу, только большая привычка. «Вот разве
что оба такие аккуратные. Немецкая кровь сказывается», — пренебрежительно
подумала Елена Федоровна. Мадам Леони, мать Мишеля и Жюльетт, была по рождению
немка, но об этом теперь в ее кругу никогда не вспоминали, — вроде того,
как у союзников было не принято вспоминать о немецком происхождении бельгийской
королевы.
|


